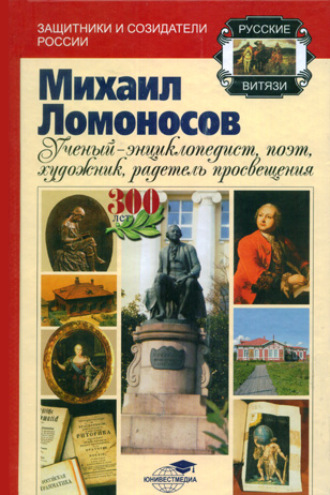
Андрей Шолохов
Михаил Ломоносов: учёный-энциклопедист, поэт, художник, радетель просвещения
Вы мене прославили, вы мене просветили,
вы мне у лиц высоких милость приобрели[83].
Однако непосредственным, публично значимым «продуктом» науки в этой версии является сам учёный, носитель истины. Процесс познания, процесс его становления протекает в кабинетной тиши, во «внутренней клети»[84]. Как всё это не похоже на откровенно публичный характер знания, которому служит петровская Кунсткамера!
Публично значимое знание, имеющее своей целью общую (общегосударственную) прямую и непосредственную практическую пользу в мире, сотканном из бесконечной вереницы случайных обстоятельств, являет собой один из полюсов в представлениях о сфере деятельности науки и учёного в петровскую эпоху. Её наиболее значимая целеустановка и естественный результат – собрание, коллекция фактов, предметов, продуктов, технологий, готовых в разной мере к использованию в практической жизни. В определённой мере этому результату и должна была служить учреждаемая Академия наук.
Другой полюс представлений о знании, науке и учёном, авторитетно утверждающийся в это время, характеризуется иной трактовкой пользы, которую они собой несут. В этой концепции знания, науки питают и услаждают, совершенствуют человека и поэтому значимы безотносительно к их практической результативности. Интеллектуальное наслаждение и совершенный человек – их главный и бесценный результат; их естественное пространство – непубличная, уединённая жизнь, отстранённость от суеты; их предмет – не повседневный, суетный мир, в котором правит бал Его величество Случай, а то, что обнаруживает себя за пеленой, тьмой случайного, то постоянное и незыблемое, что становится очевидным лишь в свете просвещения.
И совсем не обязательно эти полярные по своей сути представления о «пользе наук» должны были принадлежать разным «партиям», разной среде, например, светской и церковной интеллектуальной элите. А. Д. Кантемир в своей «Сатире I. На хулящих учение», справедливо оценённой как акт защиты просветительских идей Петра Великого в период реакции на них, вместе с тем в вопросе о «пользе наук» обнаруживает позицию, близкую скорее его прижизненным оппонентам, вроде Стефана Яворского. Во всяком случае, кантемировское определение науки как «истинной услады» взято вовсе не из словаря государя-преобразователя, а подхвачено где-нибудь в среде Славяно-греко-латинской академии.
Парадоксальность ситуации заключается в том, что две полярные точки зрения на предмет и пользу наук в русской культуре первой трети XVIII века сосуществуют рядом друг с другом, параллельно, не пересекаясь и не вступая в открытую полемику.
Вернёмся к М. В. Ломоносову. Его «гимн науке», помещённый в конце оды 1747 года, науке «питающей, пользующей, услаждающей» человека любого возраста, отстраняющей его от мирской суеты («Среди народов и в пустыне,/В градском шуму и наедине»), не зависящей от обстоятельств переменчивой жизни («счастливой» и «несчастной», «домашней» и «в дальних странствах»), обнаруживает в нём представления, сложившиеся в русской поэтической среде конца XVII – начала XVIII столетия, вполне естественные для выпускника Славяно-греко-латинской академии, воспитанного на образцах этой поэтической школы. Например, у Кариона (Истомина) в завершающей строфе его «Домостроя» находим:
Наук изрядством Карион дети всё дарит,
в приятность иеромонах и старым говорит…[85]
Сопоставим с одой 1747 года:
Науки юношей питают, Отраду старым подают…
Однако в ломоносовской оде этот «гимн науке» встроен в совершенно чуждый ей по меркам духовной силлабической поэзии контекст. Индустриально-экономический пафос, установка на непременный практический результат и публично значимый успех («Дерзайте ныне ободренны/Раченьем вашим показать…»; курсив Н. Николаева. – Примеч. ред.) совершенно невозможны, недопустимы в среде литераторов-просветителей первой трети XVIII века – от Стефана Яворского до А. Д. Кантемира. Их наука – исключительное достояние уединённой жизни, протекающей «во внутренней клети», ценной самой по себе и без связи с практическими запросами жизни внешней. У А. Д. Кантемира примитивный практицизм – удел «хулителей наук».
Что же позволяет М. В. Ломоносову свободно и непринуждённо соединить в своей оде ранее до него несоединимое?
Картина мира, представленная в русской литературе XVIII века доломоносовского периода, распадается на две относительно самостоятельные составляющие. Мир явился по-новому и существенно разделённым на частный и публичный, внутренний и внешний[86]. Это относилось не только к его пространственно-временным характеристикам, но к характеристикам ценностным. В мире внешнем, в котором господствует и управляет случай, итогом человеческого поступка, его своеобразным продуктом, становится успех, удача, достижение публично значимого результата. Ценностная пространственно-временная позиция человека (литературного героя), мотивы его поступка в таком мире характеризуются заинтересованным, деятельным предстоянием ему и отбором в бесконечной веренице случайного того, что составляет практически ценное.
Мир внутренний и частный (непубличный) сопряжён с представлениями о вневременном, богоосмысленном и упорядоченном, постижение и приобщение к чему требует внутреннего сосредоточения в ущерб публичному успеху, вплоть до аскетического мироотвержения. Суть человеческого поступка в этом ценностном контексте (поступка литературного героя) заключена в его способности не отвлекаться, тайно сосредоточиться на главном, отвергнув соблазны суетного мира.
В некотором смысле именно такого героя, поборника знания, тайно вкушающего плоды «мудрости всеблагой», явила нам первая сатира А. Д. Кантемира, противопоставив его тем, для кого поверхностный и временный публичный успех отнесён к разряду главных ценностей. Ещё более чем двумя десятилетиями ранее то же ценностное противопоставление двух позиций в мире, двух типов поступка предлагал митрополит Димитрий Ростовский (1651–1709). Причём делал это настойчиво, практически во всех жанрах, в которых ему пришлось выступать в поздний (московский и ростовский) период его творчества[87]
В своих проповедях Димитрий активно формирует новую концепцию «внутреннего человека», который, в отличие от средневекового, связывает бытие с «внутренней клетью», ограждающей от публичного мира даже в условиях формальной причастности ему, утверждает приоритет тайной, «уединённой молитвы» («Внутренний человек в клети сердца своего уединён, поучающся и молящся втайне»[88]).
Смещая акценты в традиционных житийных сюжетах, Димитрий сознательно достигает эффекта смыслового противопоставления внешнего, публично явленного облика героя и его тайных, внутренних помыслов и намерений. Откровенно пугающие своим внешним видом отшельники и сознательно шокирующие поведением юродивые поздних частей «Книги житий Святых» митрополита Ростовского очевидно свидетельствуют об этом и являются художественным открытием автора на фоне предшествующей ему русской агиографической традиции, настаивающей на соразмерности внутренней и внешней красоты своих героев.
Изменение ценностных характеристик пространства, в котором живут и совершают свои поступки герои, определяет особенности поздней (ростовского периода) «Рождественской драмы» митрополита Димитрия. Пространство распадается здесь на очевидное, явное, организованное в свете ценностных установок публичного мира, и то, которое непроницаемо для обыденного мирского сознания, непостижимо. Несмотря на то что в своих физических характеристиках мир, где явился Христос, и мир царя Ирода – это один и тот же мир, в ценностном измерении это совершенно по-разному организованные пространства.
«Узнав о рождении нового царя, Ирод понимает это известие буквально и видит в Иисусе претендента на свой трон, трон царя Иудеи. Он ищет мотивы, которые могут Младенцу позволить претендовать на его престол, то есть Его земные родственные связи, Его причастность к монаршим родам. Он весь в логике земного соперничества, он весь в напряжённой борьбе за свой земной успех»[89]. Пытаясь осмыслить явление нового царя иудейского привычным для себя языком мирских ценностей, Ирод неизбежно оказывается в ловушке непостижимых для него смыслов. Принципы изображения мира суетного и мира духовного в драме Димитрия Ростовского отличаются несомненной новизной на фоне традиционных подходов к этой теме в русской школьной драме. Однако в контексте современной ему литературы в своих художественных исканиях он оказывается далеко не одинок.
Три года спустя после появления «Рождественской драмы», в 1705 году, в Киеве увидит свет знаменитая трагедокомедия Феофана Прокоповича (1681–1736) «Владимир». Несмотря на глубокие идейные и политические расхождения во взглядах двух крупнейших представителей русской православной культуры петровской эпохи, порой полярно противоположной оценке ими событий и процессов современной действительности, в своих поисках художественных решений они оказываются куда более близкими друг другу.
В третьем действии «Владимира» к князю приходит Византийский посланник Философ, которого киевский властелин испытывает спором со своим языческим жрецом Жериволом. Спор этот обнажает глубокие противоречия в миропонимании и ценностных установках его участников. Жеривол, подобно Ироду Димитрия Ростовского, признаёт только видимое, осязаемое в мире, материально выраженное. Поэтому вопросы языческого жреца обнаруживают логику суетного человека, служащего ценностям материального, публичного мира:
…Что се ест? Сам же что готует
Ясти себе бог?[90] —
спрашивает он Философа, и, получая в ответ значимое, осуждающее молчание, настойчиво повторяет свой вопрос:
…Но рци ми, коей найболш сласти
в ядении бог ищет? Что найпаче ясти
Любит он? Рцы, молю тя[91].
Ответ, что «Дух сокрушенний – Богу жертва ест любима»[92], Жеривола удовлетворить не может. Для него это характеристика слабого, немощного божества, поскольку его языческие боги
Упиваются мёдом, гусей, курей страви
тучат их, а наипаче тучнейшие кравы
И волы пожирают[93].
Следующий, вполне естественно рождающийся в устах Жеривола, вопрос:
…кое лице свойственно ест богу,
Красно ли белое? Кий шар им приемний?[94] —
тоже упирается в непонятный, непостижимый для его разума ответ Философа: «Не вемы, ест бо невидимый»[95]. Для Жеривола невидимый и неизвестный, несуществующий – одно и то же:
Не вест, в кого верует. Княже, вижу коего
Учителя импши[96].
Система доказательств у Прокоповича та же, что и у Димитрия Ростовского в «Рождественской драме». Всё, что лежит на поверхности вещей, явное, доступное для публичного обозрения, – ложно. Истинное по своей сути таинственно, не открыто для публичного мира, о чём и говорит Философ Владимиру после ухода Жеривола с жрецами:
Вера ест веровати во вещ таинственну,
ниже ест неприлично быти сокровенну[97].
Несмотря на то что предметом спора в трагедокомедии «Владимир» является проблема веры, а одна из сторон (языческие жрецы) представлена по законам жанра в подчёркнуто утрированном виде, всё-таки в значительной степени речь здесь идёт о различных принципах, методах познания мира (не случайно византийская сторона представлена в споре не церковным иерархом, а Философом), заявивших о себе в России на раннем этапе эпохи Просвещения.
Две различные системы представлений о мире, ценностные позиции в нём человека познающего, его поведения, мотивов поступка – вот что унаследовал от своих учёных предшественников М. В. Ломоносов и от чего ему предстояло отталкиваться в процессе осмысления своей позиции в мире и формулирования мотивов своего поступка учёного.
Найденная М. В. Ломоносовым философско-этическая позиция должна быть признана удивительно продуктивной, развязывающей многие узлы эпохальных противоречий.
Прежде всего, в ломоносовских представлениях кардинальному переосмыслению подвергается само понятие случайного. В глобальном миропонимании Ломоносова случайного объективно вообще не существует. Всё связано жёсткой причинной зависимостью, ко всему может быть отнесён вопрос «для чего?» (вплоть до прямолинейного: «…дождь землю кропит и солнце оную согревает для того, чтобы плоды произрастали»). Вся эта глобальная цепь мировых взаимосвязей упирается в источник разумного мироустройства, в Творца. Восхождение, научное восхождение, по этой цепи сопоставимо с «религиозным деланием». В этом смысле совершенно справедливо утверждение А. Попова о том, что Ломоносов «сказался, несомненно, как новый тип и вместе с тем, по-старому, в основе, как религиозный тип»[98]. Постулат о тотальной разумности и богоосмысленности мира ставил Ломоносова в оппозицию не только к тем, кто фетишизировал «случай», но и к тем, кто настаивал на последовательном дистанцировании от всего «слепо случайного» в мире. В его миропонимании случайное имеет место, оно есть на определённом уровне мировосприятия, но исчезает, как только мы поднимаемся на ступень глобального замысла о мире.
О вы, которы всё по рассужденью злому
Обыкли случаю приписывать слепому,
Уверьтесь нынешним превожделенным днём,
Что промысл Вышнего господствует во всём[99], —
пишет М. В. Ломоносов в «Проекте иллуминации и фейэрверка на торжественный праздник рождения Ея Императорского Величества декабря 18 дня 1753 года».
Отрицание случайного в глобальном мире лежит в основе научной, философской концепции учёного и определяет пафос его лучших поэтических творений, к числу которых, несомненно, относится «Ода, выбранная из Иова» (между 1743 и началом 1751).
Анализируя это произведение, Ю. М. Лотман (1922–1993) в своей блестящей статье пытается осмыслить его через «западную идеологическую ситуацию», с её атмосферой «страха и культурного невротизма», разрешившейся «кострами инквизиции»[100].
По мнению исследователя, перенос этой атмосферы в Россию в первой половине XVIII века становится реальным. Ода Ломоносова явила собой реакцию на эту возможную угрозу. «Ода, выбранная из Иова» – своеобразная теодицея. Она рисует мир, в котором, прежде всего, нет места сатане. Бегемот и Левиафан, которым предшествующая культурная традиция присвоила облики демонов, вновь, как и в Ветхом Завете, предстают лишь диковинными животными, самой своей необычностью доказывающими мощь творческого разума Бога[101].
Допуская правомерность подобных предположений и отдавая должное весьма остроумным и тонким наблюдениям Ю. М. Лотмана, всё-таки следует признать, что этот культурный контекст весьма далёк от насущных проблем русского читателя середины XVIII столетия, на которого и была рассчитана ода Ломоносова. Кроме того, прочитанный таким образом текст несколько выпадает из общих тенденций творчества русского поэта, всегда живо реагирующего на остроактуальные проблемы.
Ода, прежде всего, стремится «схватить» проявления глобального мира, явления масштабные, грандиозные. Отсюда и обращение к Бегемоту и Левиафану – образам, мало что говорящим русскому читателю. Во всяком случае, традиция, связывающая их с миром демоническим, в России практически отсутствовала. Стройность и осмысленность глобального умопостигаемого мира противопоставлена в оде миру, ближнему к человеку («окрестному»), эмпирически данному, что принципиально вписывается в логику традиционных для Ломоносова поэтических решений. Достаточно вспомнить его знаменитое «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния» (1743), где картинам и размышлениям об «уставе» глобального мира противопоставлено смятение маленького человека, погружённого в космическую бездну и лишённого возможности охватить её в целокупности:
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкий прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублён,
Теряюсь, мысльми утомлён[102].
Для «маленького» человека принципиально доступен лишь ближний мир, взятый вне его связи с общим замыслом и поэтому непостижимый с точки зрения связей, зависимостей и целеполаганий:
Сомнений полон ваш ответ
О том, что окрест ближних мест[103].
Для Ломоносова несомненно актуализировано понятие «случай», то есть нечто вырванное из цепи причинно связанного и потому непредсказуемогое. «…при случае великого северного сияния» (курсив Н. Николаева. – Примеч. ред.), вынесенное в название произведения, оправдано, вероятно, этой позицией лирического субъекта, ограниченностью возможностей его миропостижения.
Иов из оды Ломоносова, монолог которого («ропщущего человека») вынесен за рамки текста, тоже, как можно полагать, увидел мир как нагромождение «случайного», непредсказуемого. Именно поэтому ответ Бога представлен в целом как утверждение (доказательство) высшей целесообразности, вбирающей и упорядочивающей всё «случайное», кажущееся нецелесообразным, хаотичным. Таким образом, снимается противопоставление богоосмысленного, «сакрального», «случайного».
Он всё на пользу нашу строит,
Казнит кого или покоит.
В надежде тяготу сноси
И без роптания проси[104].
В русском культурном контексте Иов Ломоносова сближался с носителями весьма распространённой концепции, допускающей «случайное» в мире испытывающих от этого глубокое смятение, разочарование, духовное напряжение и призывающих к внутреннему отчуждению от мира непредсказуемых перемен. При этом между «случайным» (хаотичном, непредсказуемым) и «демоническим» в русском культурном сознании однозначно знак равенства не ставился. Что, надо полагать, вносит существенные коррективы в толкование замысла «Оды, выбранной из Иова», предложенное Ю. М. Лотманом.
Ломоносовское осмысление делает «случайное» составляющим глобального божественного замысла о мире (трудно постижимого для человека) и тем самым как бы превращает в факт субъективного сознания. В общефилософском плане, таким образом, понятие случайного обессмысливается. В плане этических представлений поэта и учёного «случай» получает значение «возможность» для самореализации, возможность приблизиться к пониманию божественного замысла о мире и встроиться в сакральное делание мира. В результате в ломоносовских текстах понятие «случая» появляется в причудливых словосочетаниях, вроде «дозволил случай» (письмо Г. Н. Теплову (1717–1779) 30 января 1761 года), «случай берегут» («Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её Величества Государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года») и т. д. Непредсказуемое, алогичное соединяется здесь с представлением о планируемом, осмысленном, разумно выстроенном. Эти парадоксы вполне отражают особенности ломоносовского миропонимания.
В отличие от многих своих предшественников и современников, для которых научное познание мира начиналось с внутреннего самопогружения и сознательного дистанцирования от всего случайного, переменчивого, бренного в мире, у М. В. Ломоносова, напротив, прослеживается заинтересованная сосредоточенность на «случайном», которое даёт возможность проникнуть в тайны миропорядка тем,
…которых быстрый зрак,
протает в книгу вечных прав,
которым малый вещи знак
являет естества устав…[105]
Проповедь дистанцирования от «случайного» и «переменчивого» в мире в петровскую и послепетровскую эпоху создавала идеологическую среду для пассивного миросозерцания, способствовала утрате одного из наиболее значимых завоеваний петровского времени – деятельного, энергичного, активного в мирских делах человека, жадно ожидающего своего «случая». В этом смысле М. В. Ломоносов в своей практической ориентации на «случай» ближе к непосредственному петровскому окружению. В отличие от него эта предельно светская установка на «случай» гармонизирована с религиозными чувствами и представлениями, поскольку в глобальной картине мира «случайное» утрачивало свой специфический статус, растворялось в богоосмысленном и полагаемом свыше.
Установка Ломоносова-одописца на изображение масштабных картин мира, его способность к стремительному восхождению от малого, единичного, частного, «случайного» к закономерному, общему, незыблемому и величественному (что, несомненно, определяет своеобразие его поэтики) порождены религиозно-философской концепцией русского поэта и учёного, примиряющей «случайное» и закономерное (богоосмысленное), жизненную, мирскую активность и религиозно окрашенную миросозерцательность.
Для Ломоносова «случай» – озарение, прорыв в область сакрального, богоустановленного порядка. «Случайное» озарение лежит в основе поэтики уже его первой, хотинской, оды («Восторг внезапный ум пленил…»). А после Ломоносова в русской литературе «случайное» оказывается обязательным компонентом поэтического осмысления научно-творческой сферы. Во всяком случае, когда А. С. Пушкин (1799–1837) создавал свой знаменитый «Отрывок» (1830), он, несомненно, пребывал в плену ломоносовского мироощущения и пафоса его поэзии:
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель[106].
«Случайное» и «божественное» поставлены у А. С. Пушкина рядом, вероятно, так, как они пребывают в сознании М. В. Ломоносова, поэта и учёного.
Несомненно, в оде 1747 года непринуждённое соединение в одном тексте двух концепций пользы, проистекающей от науки (практической, получившей выражение в индустриально-экономическом пафосе, и духовной, утверждаемой в тексте оды в предпоследней строфе, в «гимне науке»), обусловлено принципиальной корректировкой картины мира в сознании М. В. Ломоносова на фоне представлений его предшественников в русской культуре. Мир непредсказуемо случайного, интересный с точки зрения исключительно практических установок познающего, и мир устойчивых смыслов, предустановленной гармонии, мир как создание, рождающий вследствие этого эстетическое к себе отношение познающего, впервые предстали не в противопоставлении друг другу, а как составляющие одной удивительно слаженной конструкции, принципиально связующим звеном которой и становится познающий человек.
В августе 1750 года М. В. Ломоносов пишет своё известное поэтическое послание И. И. Шувалову «Письмо его высокородию Ивану Ивановичу Шувалову». Вот строки из него, довольно часто мелькающие в исследованиях творчества поэта:
Меж стен и при огне лишь только обращаюсь;
Отрада вся, когда о лете я пишу;
О лете я пишу, а им не наслаждаюсь
И радости в одном мечтании ищу[107].
Стихи эти часто трактуются в плане личных переживаний утомлённого работой Ломоносова, вынужденного жертвовать радостью непосредственного общения с миром, природой, замкнутого в стенах лабораторий. Это кажется справедливым, тем более что перед приведёнными строками помещено необыкновенно пышное описание красот лета. На самом деле, это не совсем точная характеристика ломоносовского замысла. Это стихи не только и не столько о тягости трудов учёного, томящегося в плену лаборатории, сколько о его совершенно особой, неповторимой позиции в мире. Для Ломоносова его научная работа и кабинетная замкнутость никогда не становились томящим пленом, а истинная радость обреталась именно в этой сфере бытия. Отрешённость от непосредственных радостей мира есть одновременно обретение их, но уже не на случайной и временной основе, а на постоянной и в наивысшей степени. Это отчётливо видно уже в следующих строках:
Однако лето мне с весною возвратится,
Я оной красотой и в зиму наслаждусь…[108]
Уникальная позиция учёного в мире – одно из несомненных и наиболее значимых открытий Ломоносова в русской культуре его эпохи. Через себя и в себе он соединяет случайное и предустановленное, явленное и законоположенное. Эта осознанная им единственность и неповторимость места в мире и определила смысл поступка учёного, помогла найти его этические мотивы, основания.
М. М. Бахтин (1895–1975), посвятивший Ломоносову наброски раннего своего труда «К философии поступка» (1985), справедливо и очень точно связывает его с внутренним переживанием единственности места, планом мира, в котором ориентируется поступок: «Только признание моей единственной причастности с моего единственного места даёт действительный центр исхождения поступка и делает не случайным начало…»[109] Далее у М. М. Бахтина: «Этот мир дан мне с моего единственного места как конкретный и единственный. Для моего участного поступающего сознания – он, как архитектоническое целое, расположен вокруг меня как единственного центра исхождения моего поступка: он находится мною, поскольку я исхожу из себя в моём поступке-видении, поступке-мысли, поступке-деле»[110].
Приведём некоторые выписки из известного письма М. В. Ломоносова Г. Н. Теплову: «Поверьте… я пишу не из запальчивости… Я бы охотно молчал и жил в покое, да боюсь наказанья от правосудия и всемогущего Промысла, который не лишил меня дарования и прилежания в учении и ныне дозволил случай, дал терпение и благородную упрямку и смелость к преодолению всех препятствий и распространению наук в отечестве, что мне всего в жизни моей дороже… За общую пользу, а особливо за утверждение наук в отечестве и против отца своего родного восстать за грех не ставлю…не употребляйте Божиего дела для своих пристрастий, дайте возрастать свободно насаждению Петра Великого»[111].
В этом послании отчётливо просматривается своеобразная ломоносовская этическая программа, которой подчинены его жизненно важные решения, действия. Прежде всего, это некоторая запрограммированность, ведомость в мирских делах свыше («который не лишил меня дарованья и прилежания»). Далее – это нацеленность на локальное, ситуативное решение задач, к общему плану (замыслу) которых он не имеет непосредственного, точнее говоря, «авторского» отношения, общий замысел, конечная и общая цель осмыслены и предопределены другими («Божие дело», «насаждение Петра Bеликого»). Наконец, уникальность позиции, качеств («дозволил случай», «дал терпение и благородную упрямку и смелость»), позволяющих соучаствовать в этом деле, от чего Ломоносов уклониться не мог; ещё – это абсолютное личное бескорыстие, поскольку личные интересы лежат скорее в плоскости неучастия в делании («я бы охотно молчал и жил в покое…»); и в завершение – это фанатическое служение делу («… всего в жизни моей дороже…», «…против отца своего родного восстать за грех не ставлю…»).
По существу, это описание модели поступка, включающее «план мира», в котором он совершается (ориентируется), его смыслы, обоснование единственности места поступающего в мире и возникающее в связи с этой единственностью долженствование[112].
Именно это переживание жизни учёного, как поступка, и исчезает в мифологизированной биографии Ломоносова. Независимо от того, идёт ли речь о его вхождении в русский мир как в «цивилизационную пустоту» или явлении вследствие некой заданной программы, предопределившей назначение и судьбу героя («почвенический миф»), всегда он выступает в качестве уполномоченного помимо него творящей воли, «представительствует» в мире (по М. М. Бахтину «ответственный поступок и есть поступок на основе признания долженствующей единственности)[113]. С учёного принципиально снята ответственность за определение своего единственного места в событии бытия. И в этом смысле сам поступок учёного представлен в существенно усечённом, искажённом виде. Акцент смещён в сторону результата, продукта поступка.
Вследствие такого подхода, мы достаточно знаем о продукте поступка Ломоносова (поступка-мысли, поступка-чувства, поступка-дела, если угодно, поступка-жизни). Самое полное воплощение этого знания представлено в его 11-томном собрании сочинений – труде, безусловно, достойном памяти великого русского учёного. Мы, однако, практически ничего не знаем о самом главном в его поступке, о его глубинных мотивах, упорно подменяя это знание мифологизированными построениями.
Принято считать, что наука не имеет национального лица. И это справедливо, если иметь в виду результат, продукт научной деятельности. С некоторыми оговорками в чистом научном продукте отсутствует и личность учёного, его, так сказать, авторское присутствие. Личное и национальное, безусловно, присутствуют в мотивах поступка учёного, в том, что его непосредственно подвигло к мучительным наблюдениям, сопоставлениям и рассуждениям.
Главный итог творческой жизни М. В. Ломоносова – не совокупность его научных открытий, а создание (воплощение) в мире совершенно нового типа «русского учёного» с его системой мотиваций к научной деятельности, нравственным оправданием научных усилий, органично встроенных в общую этическую модель поведения русского человека.
Для того чтобы эта позиция в мире была найдена, Ломоносов должен был пройти весьма сложный и противоречивый путь, полный больших внутренних сомнений и срывов. Мифологизированная его биография как раз и скрывает, нивелирует всю сложную драматургию этого процесса.






