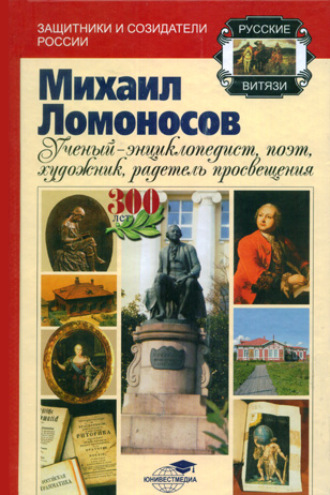
Андрей Шолохов
Михаил Ломоносов: учёный-энциклопедист, поэт, художник, радетель просвещения
Н. И. Николаев
Архитектоника мира поступка русского учёного
В биографиях М. В. Ломоносова – в различных интерпретациях, будь то адаптированное для широкого читателя изложение или претендующее на строгую, научно выверенную трактовку фактов исследование, – хотя и с разной степенью очевидности, неизменно ощущается стремление мифологизировать образ учёного. То обстоятельство, что построения реальной биографии М. В. Ломоносова до сих пор осуществляются под заметным воздействием ломоносовского мифа, очевидно и уже обратило на себя внимание многих исследователей его жизни и творчества. Справедливости ради следует отметить, что ни одному из исследователей не удалось в полной мере избежать этого воздействия.
Доктор исторических наук Виктор Маркович Живов (род. 1945) как-то заметил, что ломоносовская биография «воссоздаётся по своего рода агиографическому канону. Как некий святой наделяется врождённым стремлением к праведности, отстраняющей его от бессмыслицы детских игр, так и Ломоносову приписывается некое врождённое просветительство: тяга к учению и литературному труду, восторженное отношение к петровским преобразованиям и рациональная недоверчивость к религиозной догме»[49]. Таким образом построенный миф, несомненно, возвышает героя, оттеняет значительное, вневременное, придаёт ему очевидную монументальность. Только в случае с М. В. Ломоносовым создаётся ощущение, что он одновременно что-то размывает в этом образе, отвлекает от чего-то чрезвычайно существенного, не позволяет сфокусировать внимание на какой-то очень важной составляющей портрета.
При этом сам миф о Ломоносове при ближайшем рассмотрении оказывается исторически подвижным, изменчивым, конъюнктурным. Наиболее отчётливо это прослеживается в поэтических версиях биографии учёного.
Вот один из наиболее ранних посмертных поэтических откликов. В 1765 году – год смерти Ломоносова – граф Андрей Петрович Шувалов (1744–1789) находился во Франции. Потрясённый известием, он пишет «Оду на смерть Ломоносова» на французском языке, которую позднее преподнесёт Вольтеру. Поэтического перевода этого произведения на русский язык нет, поэтому воспользуемся несколько грубоватым и прямолинейным построчным:
В наших замороженных пустынях,
в наших сырых логовах,
Лишённый любой помощи, без образца
и без руководителя,
Он первым осмелился развивать
прекрасные Искусства,
И глубина Греции
Струилась
В наши счастливые оплоты.
Очевидны основные смысловые акценты оды Шувалова, воссоздающие первоначальные очертания ломоносовского мифа: рождён в окружении «цивилизационной пустоты» и в этой пустоте является единственным источником перерождения, животворящей перспективы. В таком же смысловом ключе решены практически все оценки Ломоносова второй половины XVIII – первой половины XIX века.
Широко известно написанное в эпистолярной форме воспоминание российского общественного деятеля и писателя М. Н. Муравьёва (1757–1807) о посещении им в 1770–1771 годах родины Ломоносова. Доминирующая тональность вынесенных впечатлений – удивление тому, что в таких условиях мог родиться столь «блистательный разум»: «Как! В хижине земледельца, в состоянии, посвященном ежедневному труду, далеко от всех способов просвещения, от искусств, от общества – родится разум, обогащенный всеми дарованиями, всеми способностями, которому суждено открыть поприще письмен в своём обществе?»[50]
Ощущение пустоты слышится в «Описании родины Ломоносова» писателя П. И. Челищева (1745–1811), посетившего её через 20 лет после Муравьёва: «Я ездил с городничим и почтмейстером на то место, где родился помянутый Михаила Васильевич Ломоносов, и любопытствовал, не увижу ль каких отменных на нём знаков, но не нашёл ничего…»[51]
Современник Ломоносова и его противник в академической среде Август Людвиг Шлёцер (1735–1809) писал позднее о нём с нескрываемой иронией: «Михаил Васильевич Ломоносов родился в 1711 году в Холмогорах, которые теперь деревня на острове Двины, а до построения Архангельска были главным пунктом тамошнего конца света»[52]. Эта оценка, по существу, всего лишь иронически заострённая, но совершенно не выпадающая из общего контекста суждений, подчёркивающих пустоту, окружающую при рождении гения. Далее у Шлёцера как бы в подтверждение этой мысли: «Ломоносов был действительный гений, который мог сделать честь всему Северному полюсу и Ледовитому морю и дать новое доказательство тому, что гений не зависит от долготы и широты»[53].
Тезис о «независимости гения от долготы и широты» слышен во множестве восторженных откликов о Ломоносове, и это, как правило, своеобразное развитие положения о «цивилизационной пустоте», в которой он родился, а вовсе не намёк на оплодотворяющую связь с загадочным и великим Севером, как это порой видится современным интерпретаторам.
В ряду сторонников такого взгляда В. Г. Белинский, который в своих «Литературных мечтаниях» недвусмысленно заметил: «…оно (явление Ломоносова "на берегах Ледовитого океана". – Примеч. Николая Николаева) доказало собой, что человек есть человек во всяком состоянии и во всяком климате…»[54]
Известная реплика А. Д. Кантемира (1708–1744) в очерке К. Н. Батюшкова (1787–1855) «Вечер у Кантемира» (1816), намекающая как бы на грядущее появление Ломоносова и предъявленная им в следующей форме: «…что скажете, услыша, что при льдах Северного моря, между полудиких, родился великий гений?»[55], на самом деле реализует всё ту же концепцию внезапного, необъяснимого, с точки зрения «широты и долготы», рождения великого человека.
Иллюстративный ряд можно продолжать почти бесконечно. Взгляд на Ломоносова как на рождённого посреди «запустения» и «дикости» и в себе, и через себя несущего свет Просвещения – наиболее распространённая версия мифологизированной биографии XVIII – первой половины XIX века.
Резкие изменения происходят во второй половине XIX столетия. Рубежным в этом смысле стал 1865 год, когда отмечалось столетие со дня смерти Ломоносова. Ф. И. Тютчев (1803–1873) на это событие откликнулся строками:
Да, велико его значенье —
Он, верный Русскому уму,
Завоевал нам Просвещенье
Не нас поработил ему…[56]
Ещё несколько десятилетий назад не принято и невозможно было говорить о «порабощающей силе Просвещения», в век Просвещения такой пассаж натолкнулся бы на довольно резкие возражения. Ещё более удивительна формула «верный Русскому уму» – она ещё никогда не звучала в отношении Ломоносова и, на самом деле, изнутри разрушает господствующую версию о его явлении в «цивилизационной пустоте».
Аполлон Майков (1821–1897) в том же 1865 году эмоционально ещё более усилил и уточнил тезис Тютчева:
Велик, могуч, как та природа,
Сам – как одно из тех чудес,
Встаёт для русского народа
Желанный посланец с Небес[57].
Это уже образец «северного текста». Северная декорация в явлении Ломоносова неслучайна. Она становится практически общим местом в поэзии, прозе и живописи XX столетия. Так у Маргариты Алигер (1915–1992) мы читаем:
Седые гривы вознося до звёзд,
дыша солёной горечью морскою,
ломает мачты ледяной норд-ост,
пропахший палтусиной и трескою.
И юноша с Двины из Холмогор,
приобретает в этой грозной школе
талант вставать ветрам наперекор
и навыки бесстрашия и воли[58].
Первоначальный миф принципиально трансформирован, в новой версии в центре внимания сильный характер, рождённый, заданный условиями сурового Севера, уникальный по своей жизнеспособности. Иногда это целая национальная программа, сохранённая в свёрнутом виде Русским Севером, для того чтобы быть воспринятой и раскрытой, реализованной ценой жизни национального героя.
Итак, два ломоносовских мифа, две концепции его жизненного подвига, оказавшиеся продуктивными в русской культуре на разных её исторических этапах в течение почти трёхвекового периода. Очевидна их идеологическая полярность: для одной принципиально значимой становится установка на «цивилизационную пустоту», в которую вводится меняющая её и содержательно наполняющая программа, её проводником и является Ломоносов; для другой – программа содержательного обновления русского мира уже изначально присутствует в нём, и миссия Ломоносова – её полноценное и масштабное раскрытие. По-разному интерпретированные, в зависимости от жанра и авторских установок и с разной степенью очевидности, эти две концепции присутствуют во всех русских текстах о Ломоносове, и обращаясь здесь преимущественно к поэзии, мы имеем в виду лишь то, что в них эти концепции представлены в наиболее сжатом и концентрированном виде.
Несмотря на существенные различия, невозможно не заметить, что представленные биографические модели имеют много общего. Обе построены по агиографическому канону, корнями уходящему в средневековое сознание. Обе в трактовке исторической миссии Ломоносова вмещаются в майковскую формулу «желанный посланец с небес», когда творящая в мире воля находится вне него, а он является в мир лишь её представителем, исполнителем.
Нетрудно заметить, что миф о человеке, явившемся в мир для того, чтобы раскрыть потенциал, таящийся в глубинах русской культуры, подсказан отчасти самим героем этого мифа – М. В. Ломоносовым. Широко известные строки из его знаменитой елизаветинской оды 1747 года дают тому, казалось бы, достаточные основания. Они чаще всего и цитируются в биографиях русского учёного, составленных в русле идеологии этого мифа:
О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовёт от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободрены
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать[59].
Вырванные из контекста ломоносовской оды, эти строки действительно могут служить подтверждением мифологизированной биографии учёного. Но стоит поднять взгляд на одну строфу выше и становится очевидным, что смысловые акценты автором расставлены несколько иначе:
Плутон в расселинах мятётся,
Что Россам в руки предаётся
Драгой его металл из гор,
Который там натура скрыла;
От блеску дневного светила…[60]
Скрытый в российских недрах металл и скрытые в её недрах умы для Ломоносова, должно быть, явления одного порядка. Ни к каким особенностям ментального характера автор, похоже, не обращается в своих рассуждениях. Как одинаковы для него богатства недр России и иных стран («Тогда сокровища открыл,/Какими хвалится Индия…»), так же одинаковы и её интеллектуальные ресурсы. И это видно даже в первоначально цитируемом отрывке оды:
И видеть таковых желает,
Каких зовёт от стран чужих…
Ода 1747 года примыкает, как это убедительно доказал русский литературовед и философ Л. В. Пумпянский[61] (1891–1940), к традиции немецких од (в том числе петербургских академических немцев), для которых был характерен индустриально-экономический пафос («экономические оды» в терминологии Пумпянского). Тезис о достаточно больших ресурсах – как природных (традиционный мотив такой оды), так и человеческих (у Ломоносова), логично вписывается в канву этих рассуждений и подтверждает возможность стремительного научно-индустриального роста страны. Ломоносовское ожидание «собственных Платонов и Невтонов» в этом смысле ничем не отличается от «собственного Нила» («Там Лена чистой быстриной,/Как Нил народы напояет…») и собственных «индийских сокровищ». Все вместе – в ряду прочего – они и составляют условия индустриально-экономического всплеска, цивилизационного прорыва некогда дремлющей страны.
Ни о каком таящемся до времени своего самораскрытия в недрах русской культуры уникальном духовно-интеллектуальном потенциале, как это представлено в позднем ломоносовском мифе, сам Ломоносов ничего не говорит. Этому бы противоречило очевидное присутствие в тексте оды 1747 года следов другого, противоположного ему, мифа о внезапном (по воле Провидения) рождении гения в «цивилизационной пустоте». Правда представлен он у Ломоносова пока ещё в зачаточном виде и отнесён исключительно к явлению Петра Великого:
Ужасный чудными делами
Зиждитель мира искони
Своими положил судьбами
Себя прославить в наши дни;
Послал в Россию Человека,
Каков неслыхан был от века.
Сквозь все препятства Он вознёс
Главу, победами венчанну,
Россию, грубостью попранну,
С собой возвысил до небес[62].
Что же касается наук, то они тоже в ломоносовской версии являются в Россию извне:
Тогда божественны науки
Чрез горы, реки и моря
В Россию простирали руки,
К сему Монарху говоря:
«Мы с крайним тщанием готовы
Подать в Российском роде новы
Чистейшего ума плоды».
Монарх к себе их призывает,
Уже Россия ожидает
Полезны видеть их труды[63]
По наблюдениям Пумпянского, всё это восходит к весьма распространённому в европейской классицистической поэзии мифу о странствующих Музах, «мифу о странствующем едином Разуме»[64]. Он задолго до Ломоносова «прижился» в русском литературном пространстве, и его активно использовали немецкие поэты петербургской академической среды, например, Г. Юнкер в своей широко известной среди современников оде 1742 года, переведённой Ломоносовым, или ещё ранее в оде 1733 года, обращенной к Г.К. фон Кайзерлингу, новому президенту Академии: «Рим стал Римом благодаря искусству, и никогда не стоял так высоко, как когда они бежали от греков и там избрали себе местопребывание. Свершилось, по воле Небес, речённое Великим Петром – станет отныне их дальнейшей обителью северное царство Анны»[65].
Воспринятый М. В. Ломоносовым и активно используемый им «миф о странствующем Разуме» никак не согласуется ни с «почвеническим мифом», связывающим рождение русского гения с особенностями изначальной русской ментальности, ни с мифом о беспричинном рождении учёного-гения посреди «цивилизационной пустоты». Иными словами, поиск доказательств справедливости бытующих в русской культуре мифов о Ломоносове в творчестве самого поэта бесперспективен. Сам М. В. Ломоносов не видел и не переживал свой жизненный путь, его смысл и смысл своих поступков учёного так, как это видят и трактуют его потомки.
Его «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» по своим смысловым параметрам почти полностью укладывается в концепцию, господствовавшую в одическом творчестве петербургской академической среды середины XVIII века, которую Л. В. Пумпянский точно выразил в названии раздела своей статьи: «Экономизм и приглашённые музы»[66]. Пафос возможности индустриально-экономического взлёта страны, согласно этой концепции, оправдывал «приглашение Муз» в Россию, расцвет наук, способных принести ей неоценимую пользу.
В ломоносовской оде 1747 года есть один фрагмент, не укладывающийся однозначно в эту концепцию. Это, пожалуй, самые цитируемые её строки, обретшие вследствие этого в русском культурном пространстве самостоятельную – отдельную от текста оды – жизнь. Может быть, именно поэтому до сих пор не обращают внимания на их диссонирующие смысловые оттенки на фоне всего текста произведения:
Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде,
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде[67].
О какой пользе наук говорит здесь Ломоносов? Очевидно, что это какая-то иная польза, не объяснимая индустриально-экономическим процветанием России. Здесь совершенно иной пафос. Эта польза переживается посреди будничной, повседневной жизни: домашней, городской, уединённой и публичной, в разные возрастные периоды. В ней что-то сакральное, она нисходит как благодать посреди суеты. По своей природе и своему смысловому наполнению это какая-то совсем другая польза, нежели та, в которой чуть ранее убеждал царствующую императрицу и её подданных М. В. Ломоносов.
И напрасно Л. В. Пумпянский пытался объяснить появление этих строк исключительно ранним увлечением Ломоносова поэзией И. X. Гюнтера (1695–1723; ода «An die Frau von Bresslerin»)[68]. Даже если предположить сходство мотивов, остаются необъяснимыми те смысловые оттенки, которые появляются у Ломоносова в контексте его оды в целом. И предысторию этих «смыслов», пожалуй, следует искать не только в немецкой поэзии, но и в русской культурной традиции, предшествующей появлению М. В. Ломоносова.
Почти за два десятилетия до ломоносовской оды 1747 года вопрос о «пользе наук» прозвучал в знаменитой «Сатире I» А. Д. Кантемира (1708–1744) «На хулящих учение. К уму своему». Её завершающие строки, обращенные «к уму своему», звучат так:
…Молчи, уме, не скучай, в незнатности сидя.
Бесстрашно того житьё, хоть и тяжко мнится.
Кто в тихом своём углу молчалив таится;
Коли что дала ти знать мудрость всеблагая.
Весели тайно себя, в себе рассуждая
Пользу наук…[69]
И этот призыв к «тайному веселению» себя дарами «милости всеблагой», помимо очевидного упрека современности, неспособной его разделить, несёт действительное переживание, потаённое знание о радости, которую дают науки безотносительно к их практической пользе. Польза от наук не прямолинейно практическая, и поэтому о ней можно «рассуждать в себе».
Несколько выше, осуждая господствовавшее невежество, А. Д. Кантемир с горечью произносит:
Мало любят, чуть не все, истину украсу[70].
Комментарии, которые автор представит к этой строке, удивительным образом уточняют её содержание: «Истинною украсою называет стихотворец науку; и подлинно, невежество голо и срамно»[71]. От практической нацеленности науки в мир в такой её интерпретации не остаётся ровным счётом ничего, напротив, невежество «голо и срамно» именно потому, что в нём очевидна неприкрытая прагматика, желание достижения успеха в мире любой ценой. Наука в этом смысле целомудренна, в ней эти сугубо прагматические примитивные устремления не обнажены.
Не случайно «хулители наук» в сатире А. Д. Кантемира выдвигают преимущественно аргументы, подтверждающие их практическую беспомощность, ненацеленность на повседневную жизнь, отвлечённость. Автор, защищающий науки, даже не пытается кого бы то ни было в этом разубедить. Его наука исключительно книжная, из неё невозможно извлечь немедленного экономического эффекта, удовлетворить практические сиюминутные нужды. Её должно любить, и истинные умы к ней притягивает её красота («истинна украса»).
Такая трактовка услаждающей «пользы наук» близка по смыслу «гимну наукам» из оды Ломоносова 1747 года. Аргументы кантемировских «хулителей наук» ниспровергаются индустриально-экономическим пафосом ломоносовской оды. Он легко бы одержал победу над ними на их же территории, представив масштабную картину практических следствий научных изысканий. Почему же этого очевидного шага не делает блестяще и всесторонне образованный А. Д. Кантемир в 1729 году? По-видимому, он ориентирован на совсем другую парадигму, нежели М. В. Ломоносов, то есть картина мира, из которой исходит в своих суждениях и оценках русский сатирик, несколько отличается от той, которую принял на вооружение его младший современник М. В. Ломоносов.
Петровская эпоха, в которую сформировались взгляды А. Д. Кантемира, внесла в картину мира ряд существенных корректировок, прямо касавшихся затронутой здесь темы. Прежде всего, относительно статичный в литературном толковании мир обнаружил необыкновенную подвижность, динамику, влияние на него случайных факторов, случая. Это подтверждается наблюдениями А. С. Дёмина над драматургией эпохи: «…с начала XVIII века представления о захватывающей переменчивости земной жизни распространилось, по-видимому, очень широко, приобрело невиданную популярность, стало общепринятым в литературе»[72]. Случайное становится существенным фактором, определяющим состояние мира. Это вытекает не только из литературных наблюдений.
Для человека петровской эпохи ценностный центр в настоящем, в мгновении, в случае. Надежда «попасть в случай» – одно из наиболее сокровенных его ожиданий, по крайней мере, представителей определённых социальных слоев, особенно столичного дворянства. Хотя формула эта («попасть в случай») употребима часто применительно к придворной карьере или в сфере любовных похождений, она весьма удачна и может служить характеристикой настроений, господствующих в петровскую эпоху и в других жизненных сферах. В поэзии этого времени преобладают «стихи на случай», содержание которых «победа и возвращение из путешествия, брак, рождение ребенка, смерть и погребение. Главное место среди них занимали панегирики»[73].
Ориентация на «случай» становится в петровскую эпоху, вероятно, важным и в системе воспитания юношей и девушек. В весьма популярных наставлениях петровского времени «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов» (1717) его составители, памятуя о тех или иных качествах, необходимых юношам, весьма настойчиво стремятся раскрыть их в некой конкретной ситуации. Девизом таких наставлений могло бы стать: «Не упусти своего момента!» «Прямый придворный человек имеет быть смел, отважен, и не робок, а с Государем каким говорить с великим почтением. И возможет о своём деле сам предъявлять и доносить, а на других не имеет надеятися. Ибо где можно такого найти, который бы мог кому так верен быть, как сам себе. Кто при дворе стыдлив бывает, оный с порожними руками от двора отходит. Ибо когда кто господину верно служит, то надобно ему верная и надёжная награда. А кто ища милости служит, того токмо милосердием награждают. Понеже никто ради какой милости должен кому служить кроме Бога. А Государю какову ради чести и прибыли, и для времянной милости»[74]. Поистине показательны эти «времянные милости» и умение «донести Государю» «о своём деле» в нужный момент и без посредников. В «Юности честном зерцале» есть ещё одна особенность, которая отчётливо обнаруживает себя на протяжении всего текста наставлений. Это обоснованность, мотивированность проповедуемых моральных принципов не столько укоренённостью их во вневременном, вечном, безусловном и самоценном, сколько попытка найти мотивацию и «оправдание» в настоящем, в самой быстротекущей порождающей случаи жизни. «Отрок должен быть весьма учтив и вежлив как в словах, так и в делах: на руку не дерзок и не драчлив, также имеет оной стретившаго на три шага не дошед, и шляпу приятным образом сняв, а не мимо прошедши назад оглядываясь поздравлять. Ибо вежливу быть на словах, а шляпу держать в руках неубыточно, а похвалы достойно. И лучше когда про кого говорят: он есть вежлив, смиреный кавалер, и молодец, нежели когда скажут про которого, он есть спесивый болван»[75].
Всё это очень напоминает моральный кодекс известных грибоедовских персонажей, с их ценностной ориентированностью на карающее слово княгини Марьи Алексеевны. С той лишь разницей, что подано здесь без малейшего осуждения и без ощущения противоречий с какими-то большими глубинными нравственными ориентирами.
Светский человек петровской эпохи («передовой» человек) ситуативен, ориентирован на «случай», реализован в настоящем. Отсюда и его некоторая кощунственность, отстояние от церкви, проявившееся при дворе государя в действиях пародийного всешутейшего собора, осмеивавшего церковных чин[76]. Более того, настоящее, в условиях быстротекущей жизни, порой даже подвергается некоторой сакрализации на уровне обыденного сознания.
Так, «Записки о России» (напечатанные в XIX веке) графа Г.-Ф. Бассевича (1680–1749) содержат весьма любопытное свидетельство суждений Петра Великого. «Брак генерал-прокурора Ягужинского с дочерью великого канцлера Головкина, совершённый несколько дней после этой печальной церемонии (речь идёт о похоронах Прасковий Фёдоровны Салтыковой, вдовы царя Иоанна. – Примеч. Николая Николаева), был замечателен тем участием, которое принимал в нём Император. Первая супруга Ягужинского, страдавшая ипохондрией и имевшая странный характер, ежечасно истощала его терпение, несмотря на это, он находил, что совесть не позволяет ему развестись с нею. Император, до которого дошли о том слухи, взял на себя труд объяснить ему, что Бог установил брак для облегчения человека в горестях и превратностях здешней жизни; что никакой союз в свете так не свят, как доброе супружество; что же касается до дурного, то оно прямо противоположно воле Божией, а потому столько же справедливо, сколько и полезно расторгнуть его, продолжать же его крайне опасно для спасения души. Поражённый силой этих доводов, Ягужинский согласился получить разрешение от своего государя на развод»[77].
На человека петровской эпохи сила этих доводов действительно должна была оказывать необыкновенное воздействие. Непосредственно переживая ценность и значимость настоящего, его какую-то исчерпывающую полноту, он подсознательно должен был находиться в конфликте с утверждением какой-то иной, за пределами этого настоящего, ценности и легко соглашаться с компромиссной мыслью о сродности этой запредельной, вневременной ценности и ценности настоящего.
Случайное, как существенный фактор и составляющая целой картины мира, становится концептуальным элементом научных представлений о ней. Сказалось это в назначении одного из первых учреждённых Петром Великим в России структурных подразделений будущей Академии наук – Кунсткамере. Концептуальная особенность музейного собрания Кунсткамеры – всё редкое, неожиданное, выпадающее из ряда привычного и нормального. По существу, это продукт случайного стечения обстоятельств. Экспонаты собрания Кунсткамеры – это свидетельства, вещественные доказательства случая как влиятельного в мире фактора, они сами по себе есть случай, явленный в предмете (то есть то, что «случается» в мире).
Одна из несомненных публичных функций Кунсткамеры – преодоление страха перед непредсказуемостью случайного, объясняемого ранее как продукт дьявольского действия. Именно в силу этих причин «Пётр отверг предложение генерал-прокурора Сената С. П. Ягужинского, который советовал назначить плату за посещение Кунсткамеры. Пётр не только сделал свой музей бесплатным, но и выделил деньги для угощения тех, кто сумеет преодолеть страх перед "страшилищами". Шумахеру отпускалось на это четыреста рублей в год. Угощение посетителей Кунсткамеры продолжалось и в царствования Екатерины I и Анны Иоанновны. Так реформатор приучал традиционную аудиторию к новизне, к раритетам, к небывалым вещам»[78].
В концепции мира, утверждающей приоритет случая, нет места закономерности, нет сколь-нибудь очевидных мотивов для её поиска. В этих условиях познание, как процесс, становится простым наращиванием фактического материала лишь формально упорядоченного, систематизированного по отраслям, рубрикам. Любая коллекция, музейное собрание (в том числе и Кунсткамера) в этом контексте становились не только демонстрацией такого знания, но и его исчерпывающей моделью.
Академик А. М. Панченко (1937–2002) вслед за известным исследователем русской литературы П. П. Пекарским (1828–1872) обратил внимание на один факт из истории коллекции Кунсткамеры, явно противоречащий самому замыслу этого собрания: «В росписи предметов, которые были присланы в Кунсткамеру из провинции 8 марта 1725 г., значатся две заурядные собачки, поступившие от князя М. Голицына из Ахтырок. Отчего же они показались занимательными? Оказывается, как следует из росписи, они "родились от девки 60-ти лет"! Вот как понимали знаменитый петровский указ от 13 февраля 1718 г. о доставлении в Кунсткамеру уродов и редкостей: Пётр требовал сенсаций, а ему предъявляли вещественные доказательства "чуда"»[79].
Между демонстрацией «чуда» и любым «правомерно» попавшим в коллекцию Кунсткамеры предметом есть существенная разница с точки зрения целей их предъявления. Знание о явлении «чуда» посреди суетного мира не может быть практически применено в этом мире, оно уводит за его черту, в сферу, где любые практические знания и навыки бессмысленны. Редкости из собрания Кунсткамеры сознательно расширяют границы представлений о мире и тем самым помогают адекватно ориентироваться в нём. В этом смысле их практическая нацеленность несомненна.
Одной из задач первого путешествия по Европе Петра I и было расширение представлений о мире, сопровождавшееся составлением важной для практической жизни России «коллекции» (в широком смысле слова, включавшей представителей небывалых для неё профессий), «…члены Великого посольства изо всех сил разыскивали и нанимали для службы в России специалистов по флоту, производству вооружений, медицине и др. Всего удалось набрать более 800 человек – голландских, английских, немецких, венецианских, греческих офицеров, матросов, инженеров, врачей и пр. В Россию отправили несколько десятков тысяч ружей новых марок, всякие военные материалы, морские приспособления»[80]. Заметим, что именно с этого времени Пётр I начинает собирать редкости для будущей коллекции Кунсткамеры.
Стремительное, агрессивное наращивание практически значимого знания путём его беспрецедентного для русской истории коллекционирования – одна из примет стиля петровской эпохи. Хотя это время породило и совсем иной стиль поведения познающего человека. Он (стиль поведения. – Примеч. ред.) очевидно просматривается, например, в элегии митрополита Стефана Яворского (1658–1722), прощающегося перед смертью со своей библиотекой:
Книги, мною многажды носимы, грядите,
свет очию моею, от мене идите!
…
Паче мёда и coma вы мне сладши бесте,
с вами жить сладко бяше, горе, яко несте.
Вы богатство, вы слава бесте мне велика,
вы рай, любви радость и сладость колика[81].
Это одно из наиболее ранних в русской поэзии выражений того интеллектуального наслаждения, которое приносит общение с книгой, знание, наука. Зримый образ питающего и тем самым услаждающего знания («паче мёда и сота») у Стефана Яворского очевидно расходится с тем представлением о пользе, которую несут собой петровские «коллекции». В Кунсткамеру нужно ещё заманить угощениями, поскольку всё, что в ней выставлено в качестве экспонатов, никакой «услады» нести собой не может, а знание, заключённое в книгах иерарха русской церкви, само по себе является сладостным угощением, вечным источником сил.
Есть ещё одна особенность, которая характеризует знание, приверженцем которого является Стефан Яворский и его интеллектуальное окружение. Оно по природе своей не публично, предполагает уединённую беседу с книгой, нацелено на формирование «внутреннего человека». Для иеромонаха московского Чудова монастыря Кариона (Истомина), жившего в конце XVII и начале XVIII века, так же, как «внешний человек пищами питающся в совершение и меры возраст успевает и от силы в силу приходит, тако и внутренний человек словесы веры и… учений пиществуя…»[82] Из этого вовсе не следует, что плоды наук никак не сказываются в публичном пространстве, не влияют на публичный статус учёного человека. Как раз последнее весьма актуально для поборников такой науки. У Стефана Яворского в уже цитируемой элегии читаем:






