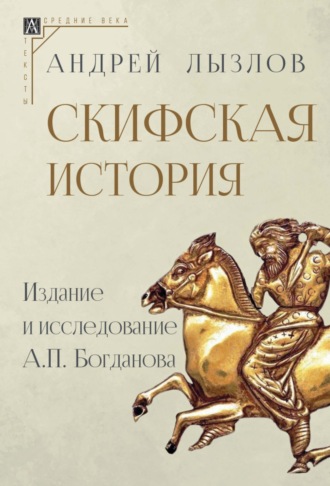
Андрей Лызлов
Скифская история. Издание и исследование А. П. Богданова
Городское, провинциальное и общерусское местное летописание
Соотношение чисто дворянских редакций с основным направлением развития городского и провинциального летописания тем более любопытно, что последнее к концу XVII в. стало наиболее популярным жанром среди новых летописных памятников. По количеству сочинений, редакций и в особенности списков оно превосходит все создававшиеся тогда общерусские летописи и отражает огромный интерес книжников к истории своего города, уезда, края.
Даже наиболее приспособленный к потребителю «Летописец выбором» уступил в конце столетия пальму первенства производному от него «Краткому Московскому летописцу»[89]: единственному городскому памятнику, получившему самостоятельную жизнь среди множества местных редакций Летописца (псковской, вологодской, ярославской и т. п.).
В последней четверти XVII – первой четверти XVIII в. сформировались и распространились во множестве рукописей краткие городские и провинциальные летописцы: Двинской[90], Нижегородский[91], Вологодский[92], Ростовский[93], Казанский[94], Устюжский[95], упоминавшийся уже Сибирский (названный Сводом в основном из похвального местного патриотизма)[96] и целый ряд южнорусских[97]. Не только старые культурные центры, но и Тамбов, построенный на степной границе в 1636 г., вел свой Летописец, начатый в последней четверти XVII в. и продолженный в следующем столетии[98].
Следовало бы восхититься таким взрывом краеведческого творчества вкупе с обойденным вниманием исследователей, но несомненным сходством формы и содержания кратких городских и провинциальных летописцев «переходного времени». Однако прежде чем делать выводы относительно развития культуры и народного самосознания, мы озаботились изучением истории текстов всех этих памятников.
Оказалось, что первыми неизменно появляются «воеводские», созданные чиновниками местной администрации редакции кратких летописцев, после чего большинство из них получает еще и редакции «архиерейские», явившиеся под пером представителей епархиального управления. Сие объясняет, почему история города или края в летописцах начинается обыкновенно со времени вхождения их в состав Российского государства, а традиционная разбивка по «летам» дополняется периодизацией по присланным из Москвы воеводам (М.Е. Салтыков-Щедрин в «Истории одного города» не выдумал этот прием) и затем уже по епископам. Назвав эти административно созданные летописцы городскими и провинциальными, мы подразумеваем поэтому не только географическую сферу интересов авторов, но и провинциальный – относительно столицы – дух повествования.
Из старинных центров местного летописания процветал во второй половине XVII столетия лишь Великий Новгород, где в Софийском скриптории продолжали создаваться настоящие общерусские летописные своды с местными предпочтениями и собственной точкой зрения на исторические события[99]. Для сравнения отмечу, что в каждом таком памятнике, вобравшем древнейшие и новейшие исторические сочинения, могли бы с легкостью уместиться по объему все краткие городские и провинциальные летописцы, а в Новгородской Забелинской летописи они уложились бы не один раз.
Отдельные общерусские летописи, правда, создавались и редактировались в старинных городах и монастырях, отражая интерес книжников и к местным событиям. Достаточно вспомнить, например, ошибку самого С.М. Соловьева, решившего, что «Сокращенный временник» был написан в Вологде[100]. Ученые, оспорившие этот вывод[101], также не обратили внимания, что речь идет о рукописи летописного свода Чудова монастыря в редакции митрополита Ростовского и Ярославского Иоасафа Лазаревича, хиротонисанного из архимандритов чудовских, тогда как в других списках памятника отсутствуют ростовские и вологодские известия[102].
Ростовские статьи «Сокращенного временника» надо оценивать примерно так же, как сибирские известия Свода Игнатия Римского-Корсакова[103] или костромские «Русского временника», часто по незнанию литературы именуемого «Костромским летописцем»[104]. Иное дело общерусская Спасо-Прилуцкая летопись, созданная в стенах монастыря и отразившая, естественно, немало местных известий, а позже продолженная повременными записями на архиерейском дворе в Вологде[105]. Из южнорусских сочинений сходным памятником является Летописец Леонтия Боболинского, местные интересы которого менялись при переезде из Киева в Чернигов, а затем в Новгород-Северский[106].
Отделив произведения служилых по прибору (в приказном обличии или без оного), создававшиеся «по службе», от личных произведений дворян, выражавших их частную позицию, и от сохранявшейся в столь же немногочисленных списках традиции общерусского летописания на местах, мы можем поставить любопытную задачу комплексного изучения «административной историографии», представлявшейся до сего дня лишь не вполне завершенными работами сотрудников Записного приказа, дьяка Ф.А. Грибоедова и окольничего А.Т. Лихачева[107].
Объединение усилий светской и церковной властей в создании имевших немалый успех городских и провинциальных летописцев заслуживает особого внимания. Весьма любопытным было бы детальное сравнение сих произведений с внешне весьма отличными крупными летописными сводами новгородского Софийского дома и Кремлевского патриаршего скриптория, в которых сотрудничали, по нашим данным, как монахи, так и митрополичьи, а в Москве патриаршие приказные. О патриарших приказных и думных людях стоило упомянуть в связи с судьбой А.И. Лызлова: из этой среды был его отец. Но это отдельная, далеко идущая тема, связанная с созданием крупнейших памятников общерусского летописания.
Рождение мемуаров
Произведения, которые мы называем просто дворянскими, развивались по иному пути и стали предшественниками других жанров: монографического, мемуарного и дневникового. Их объединяющей чертой стал ярко выраженный личный взгляд на события, претендующий на историческую правду вне зависимости от традиции, общественного мнения и прочих старинных критериев истинности суждений. И если летописец из дворян Сидор Сназин (в Мазуринском летописце) утонченно маскировал свои весьма смелые суждения в традиционнейшей форме летописания «без гнева и пристрастия»[108], то дворяне не бывшие, а сущие самовыражались с лавинообразно нараставшей в XVII в. откровенностью.
Разумеется, начатки мемуарного жанра не принадлежали исключительно дворянской среде: общество XVII в. не было настолько стратифицированным. События личной жизни и индивидуальные наблюдения, интересные только самому автору и его близкому окружению, записывали в конце столетия и дьячек Благовещенского погоста на р. Ваге Аверкий[109], и московское семейство площадных подьячих Шантуровых[110]. Большая заслуга в «очеловечивании», открытой субъективизации исторического повествования принадлежит «огнепальному протопопу» Аввакуму, его товарищам-староверам – Епифанию, дьякону Федору, Савве Романову, выдающимся женщинам раскола и их биографам[111]. В ярко выраженном личностном восприятии и изображении событий они пошли еще дальше светских мемуаристов.
Напряжение идейной борьбы повсеместно ломало традиционные литературные рамки, и так довольно расшатанные к XVII в. (вспомним хотя бы созданное сыном преподобной житие Юлиании Лазаревской). Патриарший протодьякон Иван Корнильевич Шушерин принужден был фактически отказаться от житийной формы, написав подлинное исследование о жизни и обстоятельствах деятельности Никона с его глубоко личными переживаниями, видениями и т. п. В свою очередь Игнатий Римский-Корсаков, блестящий знаток житийного жанра в его классических традициях, важнейшую часть «Жития» патриарха Иоакима изложил в форме личного письма к своему приятелю Афанасию, архиепископу Холмогорскому и Важескому[112].
Произведения, появившиеся в ходе жаркой богословской полемики второй половины 1680‑х гг. о «пресуществлении святых даров», оказали заметное влияние на развитие приемов рациональной исторической критики в России (аналогично тому, как богословские разногласия способствовали развитию источниковедения на Западе, в частности, обществом болландистов). У нас богословские споры выразили в качестве важнейшей идею о праве человека «разсуждати себе»[113], т. е. самостоятельно мыслить, – убеждение, лежавшее в основе дворянских исторических сочинений «переходного времени» (хотя и не распространяемое на «чернь», также желавшую мыслить свободно).
Но староверы и никониане[114], просветители и мудроборцы[115] самыми личными эмоциями и глубокими аргументами служили неким отвлеченным идеям, объединявшему их общему делу. Пафос их произведений при всей новизне выражения не отличался, по сути, от панегириков и инвектив традиционной церковной литературы. При наличии бесценных произведений участников церковного Раскола литературная традиция «переходного времени» все же оставляет основной вклад в развитие личностного начала в историографии за дворянством.
Это утверждение требует пояснения. Да, Аввакум, как и Никон в рассказах Шушерина, мог сосредоточиться на своей личной жизни как никто другой, поскольку историческая истина, правота его дела представлялась автору объективной реальностью, не требующей ни исследования, ни доказательств. У «огнепального протопопа», в отличие, например, от князя Ивана Андреевича Хворостинина[116], не возникало потребности в мучительных размышлениях о нравственном смысле происходящих событий и человеческих свершений. В противность автору «Словес дней, и царей, и святителей московских» Аввакум не оплакивал собственных заблуждений и не сострадал гонителям, вынужденным, как и сам Хворостинин, болезненно пересматривать смысл истории и искать оправдания собственным поступкам. Аввакум с попадьей и детками страдал за правду – князь Иван Андреевич и его герои, начиная с патриарха Гермогена[117], мучились в поисках личной истины и силились определить свое место в трагических событиях русской истории (подобно А.М. Курбскому, невзирая на обличительный пафос его сочинений).
Любопытно, что именно у представителей служилого сословия раньше и ярче других проявляется личный, не связанный со служением некоей надчеловеческой идее взгляд на историческую действительность. Впрочем, сие логично, поскольку реальная служба занимала дворян достаточно, чтобы не отдавать ей и досуг, а главное – это была мирская, телесная, редко связанная с духовностью работа (во всем многообразии этого понятия).
Тем не менее о событиях, связанных с собственной службой, авторы рассказывали много и живописно. Помимо уже называвшихся сочинений следует вспомнить повествование о приключениях стольника В.А. Даудова, вернувшегося с успешной посольской службы в Константинополе, Азове, Хиве и Бухаре (1669–1675)[118]. Близкие по типу записки будущего видного дипломата графа П.А. Толстого сообщают впечатления от путешествия через Австрию и Германию в Италию для обучения морскому делу по приказу Петра I (1697–1699)[119].
Развитию новой, отличной от «хожений» формы записок путешественников помогала разработанная стилистика посольской отчетности, в коей даже доносы временами выглядели весьма поэтически. Довольно сказать, что многие статейные книги и списки, описанные и исследуемые Н.М. Рогожиным, приравнены к литературным произведениям в «Словаре книжников и книжности Древней Руси»: фундаментальном справочнике, издаваемом Пушкинским домом. Недавно удалось выяснить, что и ярчайшие, знаменитейшие, популярные едва ли не более всех последующих публицистических сочинений староверов «Прения с греками о вере» Арсения Суханова создавались автором в 1650 г. как часть «статейного списка» – отчета Посольскому приказу[120].
На самом рубеже веков популярность приобретает и несколько иная (но не принципиально отличная) журнальная форма повременных записей. Она широко известна по так называемому Журналу Великого посольства 1697–1699 гг., составленному загадочным автором от первого лица. Уже по тому, что ученые бесплодно спорят об авторстве сего памятника, можно понять, что личностный фактор в петровском окружении несколько меркнет по сравнению с яркими страницами предшествующей эпохи[121].
В сходной форме писались дворянские записки эпохи Северной войны[122]. Думный дворянин и воевода С.П. Неплюев рассказал о поражении своего отряда в сече со шведами у Клецка (1706), а неизвестный автор поведал о разгроме шведов под Лесной (1708), сопроводив рассказ рассуждением о войне в целом[123]. «Журнал» – фактически дневниковые записи о службах 1714–1727 гг. с отдельными развернутыми описаниями событий, например, Прутской катастрофы 1711 г., – довольно регулярно вел секретарь придворной конторы капитан-поручик А.А. Яковлев[124]. Интереснейшие наблюдения о войне на Балтике оставил в своих Журналах вице-адмирал Наум Акимович Синявин[125].
Также остановившийся на событиях Северной войны граф Г.П. Чернышев, о роде которого мы упоминали в связи с фамильной редакцией «Летописца выбором», в более позднее время творил в форме «автобиографических записок» о службе своей и своих родственников с Азовских походов, весьма напоминающей сочинения XVII в.[126] Впрочем, и форма журналов, производящих впечатление новизной названия, в первой четверти XVIII в. не ушла далеко от повременных летописных записей, а рассказы об отдельных событиях, свидетелями и участниками которых являлись авторы, были в «бунташном столетии» важными источниками летописцев: достаточно вспомнить Повременные записи, которые вел в Кремле очевидец Московского восстания 1682 г., сходные статьи Летописи Сидора Сназина и основанное на подобных записях развернутое описание восстания в Летописце 1619–1691 гг.[127]
Классическим примером дворянских повременных записей «переходного времени», в русле которых происходило зарождение хорошо знакомых нам мемуарных жанров, являются Записки окольничего Ивана Афанасьевича Желябужского. Видный администратор и дипломат второй половины XVII в., как и многие другие авторы, начал писать под впечатлением Московского восстания 1682 г. и завершил повествование статьей о Полтавской баталии. Желябужский не стремился к новаторству в области формы, свои взгляды на события выражал довольно отстраненно. Однако сам отбор сведений прекрасно отразил субъективный подход автора к переменам в государстве, а литературные и языковые новации в обществе постепенно меняли форму изложения, фиксируя развитие жанра. Правда, автор делал в работе большие перерывы и время от времени возвращался к старому тексту, внося в него поправки и дополнения[128].
В наиболее ранних статьях Записки Желябужского подобны Летописцу московского служилого человека 1636–1689 гг., писавшегося по личным впечатлениям за 1668–1682 гг. и, после перерыва, за 1689 г.[129] К концу же своему сочинение отставленного после свержения Софьи (1689) государственного деятеля Желябужского сопоставимо с яркими мемуарными трудами крупного петровского дипломата князя Бориса Ивановича Куракина. В его Записках (1676–1712) и путевом Дневнике (1705–1708), в рассказе о взятии Нарвы (1704) и основанном в значительной части на личных впечатлениях сочинении о Северной войне (1700–1710) представлен практически весь спектр направлений дворянской мемуаристики петровского времени[130].
Дворяне и Запад
Любопытно, что хотя Желябужский бывал в Венгрии, Польше, Курляндии, Германии, Австрии, Англии, Флоренции и Венеции (от коей и у Куракина остались неизгладимые впечатления), а князь Борис Иванович вообще значительную часть жизни провел за границей, на форме их записок сие практически не сказалось[131]. Пожалуй, славный генерал русской службы Патрик Гордон внес больше московского в свой подробный Дневник[132], чем «европеизировавшиеся» (согласно традиционной версии) отечественные мемуаристы почерпнули при близком знакомстве с Западной Европой.
В одном, пожалуй, влияние заграницы на Б.И. Куракина сказалось значительно: его «Гистория о царе Петре Алексеевиче», посвященная первому пятнадцатилетию царствования преобразователя, с редкой смелостью и выразительностью противопоставляет «прилежное и благоразумное» правительство регентства Софьи Алексеевны вакханалии мерзости и беззакония родичей и приближенных Петра, наступившей после свержения «премудрой царевны»[133].
Однако и от «Гистории» Куракина параллели следует проводить скорее не к западноевропейской литературе, а к «Истории о великом князе Московском» А.М. Курбского, завоевавшей популярность в России как раз в последней четверти XVII – первой четверти XVIII в. Логично предположить, что не благостное влияние просвещенного Запада (переживавшего расцвет абсолютизма), а отсутствие окрест специфических отечественных прелестей вроде Малюты Скуратова или князя-кесаря Ф.Ю. Ромодановского, псов-опричников или Преображенского приказа способствовало особой остроте историко-публицистического пера двух русских аристократов за границей, разделенных более чем столетием трагического опыта государственного строительства a la russ.
Две тенденции русской аристократии в отношении к западной Европе, порожденные окончательным «затворением» границ еще при Иване Грозном, хорошо известны. Одни, вроде князя Ивана Андреевича Хворостинина, рвались уехать в просвещенную Италию (или иную землю обетованную), твердя, что «на Москве все люд глупой, жити не с кем»[134]. Другие горько рыдали, отправляясь по царским указам «в немцы», «в свеи» или, прости Господи, «во фряги», где нет ни истинного благочестия, ни даже бани.
Но любопытно отметить, что к восприятию западноевропейской книги обе эти крайности не относились вовсе. «Западники», коли читать их труды не выборочно, основательно критиковали многие положения западной ученой литературы, не говоря уже о неприятии чужой веры, политического устройства, обычаев и нравов. В то же время идея «собрать и сжечь» (в буквальном смысле) иноземные книги посещала лишь очень немногих мудроборцев.
В XVII в. не было ни одной сколько-нибудь заметной библиотеки, где отсутствовали бы книги западноевропейской печати. Знание латыни и польского уже позволяло читать значительную часть произведений в подлинниках и иностранных переводах; но читали россияне еще на немецком, греческом, реже французском и иных языках. О том, насколько велик был интерес к иностранной литературе среди не слишком образованных читателей, свидетельствует тот факт, что некоторые иноземные светские книги переводились за четверть века по три, пять, восемь и даже более раз![135]
Ведь если круг чтения знатока языков мог быть достаточно произволен, то работа переводчика является почти исключительно следствием общественного интереса. Нет нужды говорить, что подавляющее большинство западноевропейских книг принадлежало дворянам. Детальное изучение этой важной составляющей российских библиотек XVII в. есть интереснейшая проблема будущего. Сейчас существенно лишь наблюдение, что если не большая, то значительная часть этих книг имела отношение к древней, новой и новейшей истории, мировой и российской, включая современную.
Для реализации подобных интересов не нужно было даже обладать солидной библиотекой, стоившей целое состояние. Многочисленные рукописные сборники, бытовавшие на Руси, часто сами по себе были личными библиотеками для их составителей. Например, мелкопоместный дворянин из самых «низов» сословия служилых по отечеству, суздальский архиепископский сын боярский Иван Нестерович Кичигин почти 20 лет старательно собирал в свой сборник интересные для него исторические материалы (указывая их источники). Так появились у Кичигина выписки из Повести временных лет и Степенной книги, Новгородской Уваровской летописи и «Синопсиса», Повести о разорении Новгорода Иваном IV и других замечательных отечественных исторических сочинений. Вместе с ними почетное место было отведено «Избранию вкратце из книги глаголемыя Космографии, еже глаголется описание света», «Римским деяниям» и переводным повестям[136].
Дабы не впасть в пространные перечисления, всего одним сюжетом проиллюстрирую взаимосвязь русских и иностранных историко-публицистических сочинений конца XVII столетия, отлично характеризующую включенность русской книжности в европейскую. Составитель польского «Дневника зверского избиения московских бояр в столице в 1682 г.», написанного «в нынешнем 1683 году», изложил версию событий, исходившую из окружения юного А.А. Матвеева и уже сообщенную 11 октября 1682 г. в Варшаву, а оттуда в Рим по независимому тайному каналу. В 1686 г. «Дневник» был издан на немецком языке и уже через год использован автором «Краткого и новейшего, из лучших описателей в место снесенного и до нынешних времен продолженного, московских времен и земель, гражданских чинов и церковного описания» (Нюрнберг, магазин И. Гофмана. 1687). «Краткое описание», изданное по случаю вступления России в Священную лигу против Османской империи и Крыма (1686), было вскоре переведено на русский. На этом история не кончилась: версия Матвеева продолжала активно переходить из русских в иностранные сочинения и обратно в 1690‑х гг. и в последующие десятилетия[137].
Взаимовлияние отечественных и зарубежных сочинений в описании Московского восстания 1682 г. оказалось столь велико, что мы не можем без большого ущерба разделить летописцы, повести, дипломатические реляции, книги путешественников и авантюристов, памфлеты и письма русских и иностранных авторов конца XVII – первой четверти XVIII в[138]. А ведь речь идет о довольно опасной для россиян теме, связанной с политической судьбой многих власть имущих, начиная с самого Петра, воцарившегося в результате дворцового переворота 27 апреля 1682 г.
Московское правительство прекрасно понимало интерес дворянства к западной литературе, ведь оно и состояло из просвещенных дворян. Канцлер князь В.В. Голицын, выдвинувшийся при царе Федоре Алексеевиче (1676–1682) и возглавивший созданное им с Ф.Л. Шакловитым, князьями Одоевскими и др. правительство регентства Софьи (1682–1689)[139], не только собрал серьезную библиотеку западноевропейских книг[140]. Он на протяжении многих лет не без успеха воздействовал на западноевропейскую периодику и книжность, создавая нужное освещение событий как для иноземных, так и для русских читателей, интересующихся, что там пишут на Западе[141].
Приведу лишь один простой пример. В 1687 г. само московское правительство «было крайне озабочено» изданием в Амстердаме резидентом бароном Иоганном Вильгельмом фан Келлером на латинском, немецком и французском языках «Истинного и верного сказания» об успехах России в войне с Османской империей в составе Священной лиги. Текст книги был разослан дипломатической почтой в Австрию, Испанию, Францию, Англию, Швецию, Данию, Польшу, Венецию и обратно в Россию, где был переведен на русский. При этом сама книжица была лишь эпизодом работы Посольского приказа с общественным мнением Запада и России как через прямую пропаганду, так и с помощью сообщений якобы независимых источников[142].
Сказанного достаточно для пояснения, что ни живой интерес, ни понятные опасения, связанные у дворянства «переходного времени» с Западной Европой, не распространялись на обмен историческими сведениями. Идеи ограничить воздействие западной исторической книжности в предпетровской России попросту не было: отдельные инвективы против «латинских» книг касались богословской литературы. Наличие и свободное обращение западноевропейской светской и церковно-исторической литературы, восполнявшей пробелы в русских источниках, было важнейшим условием создания фундаментальной «Скифской истории».
* * *
Как видим, сама мысль историков XIX в., что Лызлов должен был быть священником, чтобы создать фундаментальный исторический труд, подобно титану XVI в. Андрею-Афанасию, автору Степенной книги, оказалась ложной. Строго говоря, как раз священников среди выдающихся ученых авторов второй половины XVII в. почти и не было. Симон Азарьин, Арсений Суханов, Симеон Полоцкий, Игнатий Римский-Корсаков, Сильвестр Медведев, Тихон Макарьевский, Афанасий Холмогорский и большинство прославленных ученостью творцов церковного чина были монахами, причем немалых чинов. Служба священника попросту не давала для ученых трудов довольно времени и средств. И почти все ученые иноки, чье происхождение известно, по рождению и воспитанию были дворянами. Но признать за дворянами просвещенность до просвещения России дубиной Петра достаточно долго считали нежелательным.
Василий Никитич Татищев, начавший службу стольником в 1693 г., через год после завершения «Скифской истории» стольником Лызловым, должен был прийти, как отец новой русской дворянской историографии, на пустое место. Сам Татищев был знаком с книгой Лызлова и первым себя не полагал. Но мы с вами могли остаться во тьме сгустившихся после века Просвещения заблуждений, если бы Елена Викторовна Чистякова не вернула нам Лызлова с его биографией и трудами.




