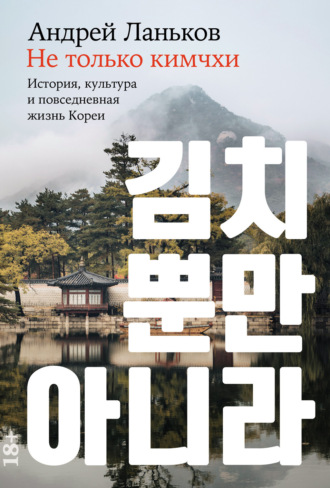
Андрей Ланьков
Не только кимчхи: История, культура и повседневная жизнь Кореи
Главные цели газеты оставались неизменными. В редакционной статье, посвящённой возобновлению газеты, её издатели объясняли, зачем нужна «Хансон чубо» и другие СМИ: «Страны Европы не очень велики ни по территории, ни по населению, но ныне в их руках сосредоточены богатство и сила мира, и они повелевают всеми шестью частями света. Это стало возможным потому, что с помощью печати они просвещали народ и ежедневно развивали его, мобилизовали его мудрость и составляли новые планы. Если и наша страна, подобно странам Запада, создаст периодическую печать, то народ будет становиться всё богаче, а государство – всё сильнее, так что в будущем и мы поднимемся на ту же колесницу, которой покорён мир, и, быть может, [наша колесница] обгонит [колесницы] стран Запада». Что ж, авторы этого текста ещё не знали термина «догоняющая модернизация», но задачи свои они сформулировали точно, и, что интересно, задачи эти (догнать и перегнать!) были в итоге ими – или, скорее, их потомками – успешно решены.
Редакционные статьи, в которых руководство издания выражало мнение по поводу тех или иных политических и общественных вопросов, стали нововведением «Хансон чубо». Кроме того, газета стала печатать текущую информацию о рыночных ценах, что делало её очень привлекательной для купцов – и корейских, и японских, и китайских (крайне немногочисленные торговцы из стран Запада в массе своей ханмуном не владели и едва ли могли знакомиться с этой информацией).
Именно на страницах «Хансон чубо» впервые в корейской истории появилось рекламное объявление. Его опубликовала немецкая фирма H. C. E. Meyer & Co, известная в Корее как «Сечханъ Янъхэнъ», которая в то время имела постоянное представительство в Инчхоне. Фирма разместила в «Хансон чубо» сообщение о скупке шкур животных. Имелись в виду не только шкуры коров и лошадей, но также и шкуры тигров – в те времена тигры ещё водились даже в непосредственной близости от Сеула.
Ещё одно изменение было связано с тем, что в «Хансон чубо» стали появляться материалы на корейском языке, хотя основным языком издания оставался ханмун (со временем, правда, «Хансон чубо» отказалась от публикации корейских текстов). В новом варианте газета просуществовала два с половиной года: последний номер вышел в июле 1888 года. Всего газеты «Хансон чубо» и «Хансон сунбо» выпустили 123 номера.
В те дни, когда в Ханъяне (Сеуле) начала выходить «Хансон сунбо», первый кореец обучался в зарубежном вузе. Именно выпускники западных (в основном – американских) вузов сыграли решающую роль в модернизации страны, и о них пойдёт речь в следующей главе.
06
На далёкой стороне, на чужой планете предстоит учиться мне в университете
1884 г. – Ю Киль-чжун стал первым корейцем, обучавшимся в США
Кто был первым корейским студентом, учившимся на Западе? Многие источники предполагают, что этим человеком был Ю Киль-чжун, писатель и политический активист, проходивший обучение в США в 1884–1885 гг. Будучи активным участником реформаторского движения, развернувшегося в Корее в начале 1880-х гг., он решил увидеть тот мир, на который реформаторы ориентировались в своих попытках перестроить Корею, и отправился в долгое путешествие. Возможно, это решение уберегло его от серьёзных проблем: он отсутствовал в Корее во время устроенной реформаторами попытки государственного переворота, в которую непременно ввязался бы – и, вероятно, погиб, как погибли многие из его друзей и единомышленников. Но в то время, когда на улицах корейской столицы реформаторы сражались с консерваторами, Ю Киль-чжун посещал лекции в далёкой Америке.
Впрочем, Ю Киль-чжун формально не окончил академического курса, а был, как бы сказали в более поздние времена, «вольнослушателем»: он посещал занятия для того, чтобы повысить уровень владения английским языком, а также познать изнутри жизнь и культуру стран Запада. Ю Киль-чжун вернулся в Корею в 1885 году и сразу же оказался под домашним арестом как известный участник радикально-реформаторского движения. Однако, находясь в вынужденной изоляции, он не стал терять времени и написал книгу о том, что увидел во время пребывания на Западе. Для многих корейцев эта книга стала настоящим шоком: западный мир в рассказе Ю Киль-чжуна резко отличался от сложившихся представлений: жители стран далёкого Запада, на протяжении долгого времени считавшиеся в Корее варварами, чья дикая жизнь не заслуживает интереса, предстали перед читателем людьми великой цивилизации, не уступающей конфуцианскому миру Восточной Азии.
Однако Ю Киль-чжун, как уже говорилось, был вольнослушателем. Первым корейским студентом, официально окончившим в США университетский курс, обычно считается Со Чэ-пхиль. Он тоже был участником реформаторского движения, но, в отличие от Ю Киль-чжуна, принимал непосредственное участие в злополучном перевороте 1884 года и, несмотря на молодость, даже занял высокий пост в правительстве реформаторов, которое не смогло удержаться у власти более трёх дней. После победы консервативных сил Со Чэ-пхиль был вынужден бежать в США. Там он прошёл полный курс обучения и, успешно окончив Университет Джорджа Вашингтона в американской столице, получил диплом врача. Ему предстояло прожить долгую и бурную жизнь: он создавал первую в Корее массовую газету, основывал первую корейскую политическую партию, служил врачом в американской армии во время войны с Испанией, был одним из руководителей корейского национально-освободительного движения (о его роли в корейской журналистике см. главу 30). Однако Со Чэ-пхиль никогда не забывал и о своей основной специальности, всю жизнь занимаясь как практической медициной, так и исследованиями в области микробиологии.
В начале 1890-х гг. число обучавшихся в США корейских студентов стало быстро расти: на учёбу приезжали выпускники школ нового типа, открытых в Корее протестантскими миссионерами. В Америке они преимущественно занимались богословием, но некоторые выбирали себе иные, светские специальности.
Примечательно, что среди этих первопроходцев были и женщины. Все кореянки, в начале XX века окончившие университеты за рубежом, были выходцами из протестантских семей, что и не удивительно: только в таких семьях могла появиться мысль о том, что девочке можно не просто дать образование, но и отправить её учиться чему-то сложному и непонятному в дальние страны.
Первой корейской женщиной – выпускницей американского университета была Ким Чхом-дон, более известная как Эстер Пак. Будучи христианкой, она взяла себе христианское имя из Библии и, следуя примеру ранних корейских феминисток, после вступления в брак сменила фамилию. Эстер Пак училась в США в 1896–1900 гг. и получила диплом доктора в медицинском колледже Балтимора. Яркая, энергичная, феноменально трудолюбивая, она сыграла большую роль в создании в Корее современной системы здравоохранения.
Ещё одной женщиной, которая училась за границей примерно в то же время, была Ха Ран-са (также известна как Ким Ран-са – она тоже сменила фамилию при замужестве). Сначала, приложив немало усилий, она добилась зачисления в миссионерскую школу Ихва в Сеуле. Это было совсем непросто, потому что Ха Ран-са к тому времени уже была замужем, а согласно действовавшим тогда правилам замужние женщины к обучению в этой школе не допускались. Однако Ха Ран-са проявила немалую настойчивость и поступила в школу Ихва. По окончании школы она уехала на учёбу в США, где в 1906 году окончила Уэслианский колледж. В итоге она стала первым корейским профессором в своей альма-матер: к тому времени школа Ихва превратилась в колледж, а потом и в университет.

Район ворот Тондэмун, открытка начала 1920-х гг. В городе появился трамвай, а вдоль улицы установлены столбы с проводами местной электрической сети, но в остальном город выглядит так же, как и за пару столетий до этого
В колониальный период Америка пользовалась в Корее большой популярностью (особенно среди активистов антияпонского движения), и США были привлекательным местом для студентов. Однако большинство корейцев, которые решали учиться за границей в колониальные времена, всё-таки ехали не в США или Европу, а в Японию. Это вовсе не означало, что они были настроены прояпонски. Главную роль тут играли финансовые причины: жить в Японии было гораздо дешевле, чем в США, да и добираться туда было намного проще. Важно и то, что в силу сходства грамматической структуры и синтаксиса корейцы усваивают японский язык значительно легче, чем английский. Таким образом, в 1929 году в вузах США обучалось всего 292 корейских студента, в то время как в Японии их было около 3000 – в десять раз больше.
Подавляющее большинство студентов, приехавших в США из колониальной Кореи, как и раньше, были выпускниками миссионерских школ и отправлялись учиться за границу по рекомендациям своих наставников. Зачастую они получали стипендии или иную поддержку со стороны церковных организаций. Примечательно, что в 1924 году из 159 корейских студентов, обучающихся в американских вузах, 58 человек (или 36,6 %) были выходцами из провинции Пхёнан-Намдо, в административный состав которой входил Пхеньян, в те годы являвшийся оплотом корейского христианства. Выходцами из Сеула и прилегающих к нему территорий, где христианство было не столь влиятельным, были всего лишь 25,8 % от общего числа корейских студентов (41 человек).
В начале 1930-х гг. обучение и проживание в США стоило от $600 до $1500 в год (в зависимости от вуза и места его расположения). Пересчёт с помощью калькулятора инфляции (неизбежно неточный) говорит, что это примерно соответствует сумме в $10 000–25 000 2021 года (как мы видим, американское образование существенно подорожало за это столетие). Согласно корейским публикациям 1930 года, самым дорогим учебным заведением был Принстон, а самым дешёвым – университет Эмори в Атланте. В Эмори иностранный студент должен был заплатить в год около $60–100 за проживание, $200–300 – за питание и $240–250 – за обучение и учебную литературу.
В 1930 году курс доллара к колониальной воне был 1:2, что означает, что год обучения в США стоил от 1200 до 3000 вон. В те дни квалифицированный рабочий в Корее получал около 200–250 вон в год, а менеджер среднего звена – около 500–700 вон в год. Таким образом, сумма в 1200–3000 вон значительно превышала годовой доход подавляющего большинства корейцев, включая и представителей немногочисленного тогда среднего класса. Поэтому почти все корейские студенты могли учиться в США только за счёт стипендии (лишь незначительная часть находилась на самофинансировании). Однако стипендию обычно давали только на оплату обучения, так что на всё остальное им приходилось зарабатывать самостоятельно. Большинство корейских студентов на каникулах подрабатывали: мыли машины и дома, стригли газоны на полях для гольфа, работали официантами в китайских ресторанах, собирали урожай на виноградниках Калифорнии.
Как правило, студенты начинали учёбу в маленьких провинциальных городах, где совершенствовали английский и осваивались с американским бытом, а потом некоторые из них переезжали в крупные города (если, конечно, могли себе это позволить).
У американского высшего образования были две особенности, которые казались корейцам привлекательными. Во-первых, им нравились сами методы обучения, которые сильно отличались от тех, что применялись в Корее и Японии. Профессора обязывали студентов много читать, а потом активно обсуждать прочитанное, в то время как в японской школе и японском вузе нужно было просто зубрить то, что написано в учебниках. Вторая особенность – это совместное обучение. В колониальной Корее все школы старше начальной ступени было строго разделены по гендерному признаку, тогда как в США в 1920–1930 гг. совместное обучение было нормой. Из-за этого корейские студенты поначалу испытывали большую неловкость, но в целом такая система им нравилась.
С другой стороны, были и проблемы. Одной из них был расизм, всегда существовавший в американском обществе, а в 1920-х и 1930-х гг. даже усилившийся. Изменения в миграционном законодательстве, произошедшие в 1924 году, существенно ограничили въезд в США выходцев из стран Азии, а новые визовые правила осложнили жизнь тех, кто всё-таки был принят в стране. Тем не менее неизбежные столкновения с расизмом не мешали большинству студентов возвращаться в Корею убеждёнными поклонниками США. Политическая обстановка в США способствовала развёртыванию антияпонской деятельности и позволяла сторонникам независимости вести там активную пропаганду, в том числе и среди студентов. Находившиеся тогда в эмиграции в США лидеры националистического движения, в том числе и будущий первый президент Республики Корея Ли Сын-ман, были активно связаны с корейскими студенческими группами и ассоциациями.
За период 1906–1936 гг. в американские вузы поступил 671 кореец – скажем прямо, цифра небольшая. Однако именно эта немногочисленная группа оказала огромное влияние на жизнь страны после 1945 года, когда свободное владение английским языком, понимание американского менталитета и вообще связи с США внезапно превратились в ценный политический капитал.
В США до 1945 года не уделяли особого внимания Корее и её проблемам – и именно поэтому американцы были несколько ошарашены, когда обнаружили, что под их контролем осенью 1945 года оказалась практически неизвестная и мало им понятная страна (похожие чувства, кстати, испытывали и советские офицеры, которые в то же самое время несколько неожиданно для себя оказались правителями Северной Кореи). В этих условиях им были очень нужны люди, которые могли объясняться на том единственном языке, который знали офицеры, то есть на английском. Поэтому корейцы, владевшие английским и понимавшие, как американцы смотрят на мир, в первые годы после освобождения страны оказались вознесены к вершинам власти.
Вспомним, к примеру, первого после освобождения Кореи мэра Сеула Ю Пом-сана. Он окончил Киотский императорский университет и в колониальные времена занимал немалые должности в японской администрации, но, поскольку он в основном занимался экономическими вопросами, его не считали коллаборационистом. Однако Ю Пом-сан плохо владел английским, что создавало много проблем для американских офицеров, так что в итоге мэром корейской столицы стал Ким Хён-мин, который на момент своего назначения был в политических кругах неизвестен. Однако Ким Хён-мин когда-то учился в средней школе на Гавайях, а затем окончил Уэслианский университет в штате Огайо и свободно говорил по-английски. С точки зрения американского командования именно это обстоятельство и оказалось решающим фактором, который определил его карьеру.
Администрацию Пусана, второго по величине города страны, тоже возглавил христианский активист, свободно говорящий на английском (Ян Сон-бон). Пятеро из десяти корейцев, ставших после освобождения страны губернаторами провинций, были выпускниками американских университетов. Лишь двое из десяти губернаторов не могли свободно изъясняться на английском, в связи с чем буквально через год свои посты потеряли. Те, кто пришёл им на смену, по-английски говорили свободно.
Разумеется, всё это было только началом. После 1945 года влияние США на Южную Корею, оказавшуюся в сфере влияния Вашингтона, резко выросло, а гигантский рывок в уровне доходов привёл к соответствующему увеличению численности как студентов, так и, главное, аспирантов и магистрантов. В 2019 году за границей обучались 36 000 южнокорейских магистрантов и аспирантов – и 20 000 из них учились в вузах США. Именно эти люди в ближайшие десятилетия составят не только академическую, но и деловую и политическую элиту Южной Кореи – ведь наличие магистерской степени из американского вуза желательно для карьеры в любой крупной компании. При поступлении на работу американская магистерская или докторская степень котируется рекрутёрами заметно выше европейской, японской или австралийской (степени из иных стран обычно не котируются вовсе).
Впрочем, в начале прошлого столетия корейцам приходилось осваивать не только иностранные языки. Как ни парадоксально, именно тогда корейский язык впервые в своей истории получив статус языка официального, став языком преподавания, языком администрации, языком культуры.
07
Новый язык, новая письменность
1894 г. – корейский язык становится государственным
Если Вы, уважаемый читатель, окажетесь в Корее, Вы с большой вероятностью можете столкнуться с ситуацией, которая покажется Вам странной. Представьте, что вы находитесь в буддийском монастыре или, скажем, в королевском дворце и видите на стене какую-то надпись, сделанную задолго до начала ХХ века. Вы можете спросить гида о том, что же говорится в этой надписи, – и, скорее всего, услышите в ответ, что гид понять надпись не может, ибо она сделана не по-корейски, а по-древнекитайски.
Действительно, до самого конца XIX века в Корее, как это ни покажется парадоксальным, корейский язык не имел статуса государственного языка и почти не использовался в письменном общении. Хотя с середины XV века существовала корейская фонетическая письменность, ныне известная как хангыль, вплоть до 1894 года все без исключения официальные документы, циркулировавшие в корейском государственном аппарате, составлялись не по-корейски, а на языке, который, строго говоря, к корейскому имеет даже более отдалённое отношение, чем санскрит – к русскому. Этот язык в Корее называли ханмуном  то есть, если переводить буквально, «письменами страны Хань (Китая)».
то есть, если переводить буквально, «письменами страны Хань (Китая)».
Ханмун в своей основе – это язык, на котором говорили в Китае в середине и конце I тысячелетия до нашей эры. Тем, кто не слишком сведущ в лингвистике, надо иметь в виду: несмотря на очень большое количество китайских заимствований в современном корейском, корейский и китайский языки относятся к разным языковым семьям, то есть по своим базовым характеристикам отличаются друг от друга примерно в такой же степени, в какой русский отличается от финского или арабского. При этом не следует смешивать ханмун и ханчжа ( «знаки страны Хань», то есть иероглифы). Ханмун – это язык, а ханчжа – письменность, созданная для этого языка, но использующаяся и для записи некоторых других языков. Некоторым аналогом может служить ситуация с латинским языком и латинским алфавитом, которым пользуются сотни языков, не имеющих никакого отношения к латинскому.
«знаки страны Хань», то есть иероглифы). Ханмун – это язык, а ханчжа – письменность, созданная для этого языка, но использующаяся и для записи некоторых других языков. Некоторым аналогом может служить ситуация с латинским языком и латинским алфавитом, которым пользуются сотни языков, не имеющих никакого отношения к латинскому.
Впрочем, ничего необычного в корейской ситуации не было: на всём огромном пространстве Дальнего Востока, от японского острова Хоккайдо и до вьетнамской дельты Меконга, на протяжении полутора-двух тысячелетий именно древнекитайский язык оставался или главным, или вообще единственным языком государственного управления, официальной документации и высокой культуры.
При этом надо помнить, что древнекитайский язык, известный в Корее как ханмун (в Японии его называли канбун, а в самом Китае – вэньянь), с течением времени стал очень сильно отличаться от разговорного китайского языка – или, если быть более точным, от тех многочисленных диалектов, на которых говорили в Китае. Не только корейцам, но и китайцам, которые решили делать административную или научную карьеру, требовалось специально учиться этому языку – примерно так, как французам или итальянцам приходится, если ситуация того требует, учить латынь, а русским и украинцам – церковнославянский.
Нет ничего необычного в том, что в науке, культуре и политике главенствующую роль играет мёртвый язык. По большому счёту, так было в большинстве средневековых обществ, в том числе и в средневековой Европе, где на протяжении тысячелетия с лишним главным языком высокой культуры и государственного управления служила латынь.
Впрочем, было и немаловажное отличие: в средневековой Европе на латыни как говорили, так и писали, а вот на вэньяне/ханмуне – только писали. В силу изменений в фонетической структуре, о которых мы здесь говорить не будем, вэньянь примерно с середины I тысячелетия н. э. в принципе не мог восприниматься на слух даже в Китае (напоминаю, что его название в переводе с китайского и означает «письменный язык»). Поэтому в старые времена образованный кореец, образованный вьетнамец и образованный японец устно объясниться друг с другом не могли, тогда как письменным ханмуном все они владели на уровне родного языка. Поэтому при встрече они доставали кисточку с тушечницей, разворачивали лист бумаги и начинали писать – в письменном виде тексты на ханмуне они понимали хорошо.
Читая тексты на древнекитайском, и корейцы, и вьетнамцы, и японцы, и носители многочисленных китайских диалектов произносили иероглифы по-своему. Впрочем, в каждом из языков произношение исторически восходило к древнекитайскому произношению времён Конфуция, то есть середины I тысячелетия до н. э., но со временем оно стало отличаться от него довольно сильно. Приведём лишь один пример: в древнекитайском языке существовало слово, которое записывалось иероглифом  и имело значение «сила, мощь». Архаическое (середина I тыс. до н. э.) китайское произношение этого слова реконструируется как *sleg. От этого слова произошли современное северокитайское ли, южнокитайское ле, корейское рёк, вьетнамское лыок. Все эти, казалось бы, не очень похожие слова являются результатом развития изначального произношения, а значение у них одинаковое – «сила». Фраза, написанная китайскими иероглифами на вэньяне/ханмуне, читалась по-разному во Вьетнаме и в Корее, но значение её от этого не менялось.
и имело значение «сила, мощь». Архаическое (середина I тыс. до н. э.) китайское произношение этого слова реконструируется как *sleg. От этого слова произошли современное северокитайское ли, южнокитайское ле, корейское рёк, вьетнамское лыок. Все эти, казалось бы, не очень похожие слова являются результатом развития изначального произношения, а значение у них одинаковое – «сила». Фраза, написанная китайскими иероглифами на вэньяне/ханмуне, читалась по-разному во Вьетнаме и в Корее, но значение её от этого не менялось.
На протяжении почти двух тысячелетий образование в Китае и прилегающих к Китаю странах (в том числе, разумеется, и в Корее) сводилось в первую очередь к овладению древнекитайским языком. Изучали ханмун методом заучивания наизусть огромных объёмов классических текстов. Этот подход может показаться современному человеку нетворческим, однако опыт показывает: метод этот работает великолепно, но только при условии, что у учащихся есть высокая мотивация. С мотивацией, впрочем, проблем не было, поскольку умение свободно читать и писать на ханмуне в странах Восточной Азии было важнейшим условием для продвижения в любой общественной сфере и необходимым условием для того, чтобы войти в элиту.
Часто можно встретить утверждения о том, что корейский ханмун принципиально отличается от китайского вэньяня или же японского канбуна. Подобные утверждения греют душу корейских националистов, но вот к реальности имеют слабое отношение. Практически всюду в Восточной Азии, от Киото до Ханоя, от Гуанчжоу (Кантона) до Ханъяна (Сеула) все те, кто получал серьёзное образование, учились по одним и тем же учебникам и читали одни и те же книги. Различия между китайским вэньянем и корейским ханмуном являются микроскопическими. Конечно, есть несколько десятков чисто корейских иероглифов, но встречаются они нечасто и предназначены для обозначения редких и специфических корейских понятий. Таких исключений крайне мало: например, иероглиф  который обозначает заливное рисовое поле, а также названия корейских государственных учреждений и ритуалов. Так что, если следовать этой логике, то, пожалуй, можно говорить о казахстанском русском языке, который якобы принципиально отличается от российского русского только по той причине, что в написанных в Казахстане текстах на русском можно иногда встретить такие слова, как акимат, елбасы и манты.
который обозначает заливное рисовое поле, а также названия корейских государственных учреждений и ритуалов. Так что, если следовать этой логике, то, пожалуй, можно говорить о казахстанском русском языке, который якобы принципиально отличается от российского русского только по той причине, что в написанных в Казахстане текстах на русском можно иногда встретить такие слова, как акимат, елбасы и манты.
Как уже говорилось, корейский язык по своему происхождению не имеет никакого отношения к китайскому языку – они принадлежат к разным языковым семьям и, следовательно, не являются даже отдалёнными родственниками. Однако Корея с момента её формирования как государства находилась в сфере сильного влияния Китая, и в корейском языке неизбежным было появление огромного количества китайских заимствований. Заимствования есть, конечно, в любом языке – в первую очередь это относится к научной и технической терминологии. Тем не менее объёмы заимствований из китайского в корейском, как и в других языках Восточной Азии, по мировым меркам являются, пожалуй, уникальными. Если корейский текст посвящён проблемам, скажем, политики или экономики, то доля китайских слов или слов, составленных из китайских корней (это не совсем одно и то же, но на этом мы останавливаться не будем), в таком тексте будет обычно достигать 70–80 %.
На протяжении многих веков корейцы, если им приходилось говорить не о вопросах повседневной жизни, а обсуждать проблемы политики, экономики, науки, равно как и государственные дела, говорили на некой смеси из своего родного языка и языка китайского. Точнее, примерно три четверти слов в таком случае имели китайские корни, но эти китайские корни обычно обрастали корейскими суффиксами и окончаниями, склонялись и спрягались по правилам корейской грамматики (в корейском, в отличие от древнекитайского, существительные склоняются по падежам, а глаголы спрягаются).
Понятно, что изучение древнекитайского языка всегда являлось сложным делом. Вопреки распространённым представлениям, дело тут далеко не только в необходимости освоить несколько тысяч иероглифов. Разумеется, чем больше иероглифов человек знает, тем лучше, но для жизни и работы хватает и 4000–5000 знаков. Даже интеллигенты старой школы, державшие в голове фантастические объёмы текстов, редко знали больше 10 000 иероглифов. Кстати сказать, точное количество иероглифов не известно никому. Самый большой классический словарь «Цзиюнь» (XI век) включает в себя 53 000 знаков, а в самом большом современном словаре – почти 55 000 знаков. Однако значения большинства этих знаков весьма далеки от потребностей обыденной жизни – вроде названия какой-нибудь части арбалета, использовавшегося в княжестве Ци в IV веке до н. э., или наименования племени, кочевавшего по Великой Степи пару тысяч лет назад. Примерно 90 % среднестатистического текста состоит из тысячи самых распространённых иероглифов.
Однако главной проблемой для корейцев были не иероглифы, а необходимость усвоить сильно отличающийся от родного иностранный язык. С этой проблемой, кстати сказать, в своё время сталкивались учащиеся во многих странах мира, в том числе и в средневековой Европе: тот, кто хотел там получить образование и выйти в люди, должен был в совершенстве овладеть латинским, то есть языком, который мог существенно отличаться от его родного языка (английского, немецкого или венгерского).
Как происходило и в других странах мира, в Корее с течением времени стал постепенно возникать интерес к собственному языку, то есть к языку простонародья, которым ранее элита не слишком интересовалась. Произошло это очень поздно. При том что корейцы ещё в середине I тысячелетия н. э. разработали способ записи корейских текстов китайской иероглификой, он использовался в очень редких случаях, в частности для записи поэтических и некоторых административных текстов. Причина тут была очевидна – способы эти, известные как лиду  или хянъчхаль
или хянъчхаль  были крайне сложны и вдобавок доступны только тем, кто уже неплохо владел ханмуном.
были крайне сложны и вдобавок доступны только тем, кто уже неплохо владел ханмуном.
В середине XV века Корея обзавелась полноценным фонетическим алфавитным шрифтом, который нам сейчас известен под названием хангыль (название это, кстати сказать, возникло лишь в начале ХХ века). Однако создание хангыля вовсе не привело к стремительному распространению текстов на корейском языке. По большому счёту, в первые два столетия своей истории корейский фонетический шрифт оставался экзотикой, которую знали немногие и которой мало кто пользовался. Лишь в XVI веке преимущества письменности на основе алфавита открыли для себя женщины из дворянских семей, которых обычно всерьёз не учили древнекитайскому, но которым тем не менее хотелось и писать письма, и читать художественные произведения. С XVI века известны первые письма, написанные кореянками (в основном из дворянских семей) на хангыле, а с начала XVII века начинает быстро развиваться и художественная литература на корейском языке, записанная корейским алфавитом: адресована она была женщинам и низшим слоям общества. Стали учить хангыль и дворяне, но чаще всего как средство общения с жёнами и низшими сословиями.
Любые тексты, написанные по-корейски, вплоть до 1894–1896 гг. воспринимались корейской элитой как тексты второго сорта, а литература на корейском – как дешёвое чтиво для низов. Хангыль часто назывался бабьим письмом  Подразумевалось, что джентльмен, который хочет приобщиться к высокой учёности и сделать серьёзную карьеру, вовсе не должен разбираться в этих примитивных письменах, которые годились только для женщин и мужичья.
Подразумевалось, что джентльмен, который хочет приобщиться к высокой учёности и сделать серьёзную карьеру, вовсе не должен разбираться в этих примитивных письменах, которые годились только для женщин и мужичья.
Ситуация изменилась в 1894–1896 гг., когда пришедшее к власти реформаторское правительство провело языковую реформу и приняло решение о переводе государственного документооборота с ханмуна на корейский язык.
Это решение стало началом тех перемен, которые с удивительной скоростью разворачивались тогда в корейском обществе. Немалую роль сыграло, наверное, общее изменение отношения к Китаю, произошедшее как раз на рубеже XIX и ХХ веков. На протяжении пары тысячелетий Китай воспринимался как культурный образец для подражания и Цивилизация с большой буквы (см. главу 3). Однако для молодых корейцев первых десятилетий ХХ века Китай, терпевший поражение за поражением от западных держав и реформированный по образцу Японии, не мог служить образцом. Наоборот, он превратился в символ отсталости и ретроградства, в воплощение тех черт, от которых хотелось избавиться.
В результате за очень короткий период ханмун оказался полностью вытеснен из сфер корейского образования и книгоиздания. Если в 1880-е гг. практически все корейские книги и (единственная на тот момент) газета «Хансон сунбо» выходили на древнекитайском, но уже к 1910-м гг. книгоиздание на ханмуне практически прекратилось.
Хотя в Корее, равно как и в большинстве других стран региона, древнекитайский язык по-прежнему присутствует в программах средних школ, новые поколения осваивают этот предмет без особого энтузиазма и, главное, в куда меньшем объёме, чем их предки (конечно, речь идёт не обо всех предках, а о членах образованной элиты). Обычно на изучение ханмуна отводится только 2–3 урока в неделю, да и то лишь в старших классах. Уже два или три последних поколения даже неплохо образованных корейцев не в состоянии свободно читать те тексты, на которых основывалась вся высокая культура их страны на протяжении полутора-двух тысячелетий. Строго говоря, подавляющее большинство корейцев эти тексты просто не понимает.
Подобный переход тоже не является чем-то необычным: нечто похожее происходило и в Европе на заре Нового времени, то есть в XVI–XVII веках. Однако, если в Западной Европе переход с латыни на национальные языки занял три столетия, в Восточной Азии на это потребовалось 50–60 лет. В современной Корее часто можно столкнуться с такой ситуацией: в семье хранятся письма или документы, написанные прадедом, но никто из потомков не в состоянии их понять. За исторически ничтожный срок огромный культурный массив стал для следующих поколений недоступен. То, что для прадедов было основным чтением, молодёжь может читать только в переводах.



