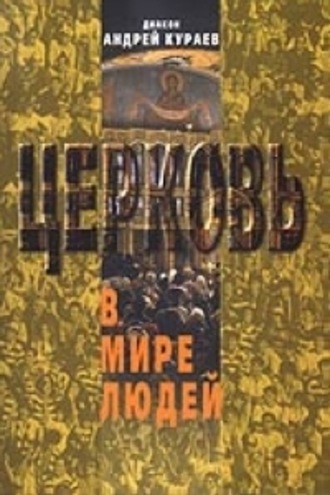
Андрей Кураев
Церковь в мире людей
Мы же должны находить наиболее приемлемую форму политического присутствия Церкви в светском обществе. Это не форма теократии или какого—то прислужничества власти. Это тактичное социальное партнерство, диалог, порой критический диалог. И эти тезисы уже прописаны в официальном документе нашей Церкви – основах социальной концепции Русской Православной Церкви, принятых на Архиерейском Соборе 2000 года.
– А почему тогда государство так рьяно защищает территорию Православной Церкви от воздействия других конфессий. Это ведь не за красивые глаза.
– Могут быть пересекающиеся интересы. Возьмем, к примеру, мир кинорежиссеров. Сам по себе он частное – лицо, но режиссер уровня Марка Захарова уже является национальным сокровищем России. Если государство окажет ему поддержку в творческой деятельности, я не усмотрю в этом никакого криминала. И посоветую режиссеру Пупкину не интриговать и не возмущаться в связи с тем, что государство оказало поддержку Марку Захарову, а не ему. Так и здесь: равенство религий перед законом не означает их равенства перед культурой и историей России.
– Есть ли у Вас какое—то отношение к новому расписанию праздников, принятому в России с конца 2004 года?
– Государственный праздник – это такой день, в котором все население страны находит повод для радости. Впрочем, радостное празднование не обязано быть тотальным. Общенациональный статус может иметь и такой праздник, который отмечается лишь частью населения – но при условии, что непразднующая часть готова поздравить своих радостных сограждан и не чувствует себя оскорбленной их торжеством.
Таков, например, Женский День. Это праздник половины народа. Но вторая половина готова поздравлять "именинниц" и не чувствует себя оскорбленной праздником не своей "улицы".
Таков праздник Рождества Христова. Его празднуют только христиане. Но ведь это не день победы христианской армии над мусульманской. И поэтому возвращение Рождества в государственный список праздников не воспринимается как ущемление прав нехристиан.
А вот что не может быть государственным праздником – так это торжество одной части народа над его другой частью.
И уж тем более странно смотрится выдавание дня начала гражданской войны за "день согласия и примирения". Вне зависимости от оценки советского периода истории России события 7 ноября 1917 года, это – а) государственный вооруженный переворот с последовавшим затем разгоном законно избранного парламента ("Учредительного собрания"); б) начало кровопролитного и затяжного конфликта (и кто скажет – когда прозвучали его последние залпы. В 1929—м? В 1941—м? В 1993—м?).
Немалая часть сегодняшних граждан России, если бы им предложили самим оказаться в Петрограде 1917—го года и сделать свой выбор, выбрали бы сторону не—большевиков. Кто—то сказал бы и белым, и красным: "чума на оба ваших дома!". Кто—то вспомнил бы слова Максимилиана Волошина: "А я стою меж теми и другими и всеми силами моими молюсь за тех и за других". Кто—то взял бы оружие в руки, чтобы остановить "красное колесо" еще при первых его кровавых оборотах…
Значит, в этом вопросе наше общество партийно (партия означает – часть). И зачем же партийный праздник делать общенациональным? Зачем навязывать не память, а именно празднование тем, для кого 7 ноября – день скорби? То не нормально, когда в один и тот же день одни люди идут на панихиды по жертвам красного террора, а другие напротив радуются тому, что эх, как нам удалось тогда прорваться к власти и свергнуть тиранов. Слишком разную оценку разные люди дают событиям того дня. И хотя бы, поэтому он не может быть символом примирения.
В истории день 7 ноября отменить нельзя. В памяти он останется. Но зачем навязывать праздничное переживание революционных событий?
Так что идею возвращения 7 ноября в ряд будней я поддерживаю. А вот другие предложения праздничной реформы вызывают у меня иные реакции: от категорического "нет" до "Да, но…".
Юрий Шевчук дал потрясающую характеристику вновь навязанных десяти праздничных новогодних дней, назвав их "январским геноцидом": в традициях русского народа бесконечно длинные выходные обернулись беспробудной пьянкой российской глубинки…
Самое странное, что эти каникулы становятся предрождественскими. Во всем мире каникулы Рождественские, на Святках, то есть после праздника. У нас же они получатся именно пред—рождественскими: с 1 по 7 января. С церковной точки зрения это странно: именно последняя неделя перед Рождеством и есть неделя самого строгого поста и подготовки к празднику. Теперь же получится, что Рождество станет "по—празднством", похмельем. Бесконечные попсовые концерты и затертые юмористы всю неделю будут насиловать нас с телеэкранов. Под видом подготовки к Рождественскому празднику духовная подготовка к нему будет как раз сорвана. Представьте, что в месяц мусульманского поста (когда людям Ислама запрещено вкушать любую пищу при свете дня) телевидение с утра до ночи показывало бы кулинарные передачи и рекламировало винопитие. Сочли бы мусульмане такое телеменю свидетельством уважения к их религиозным традициям?
Впрочем, я знаю, как будут вести себя православные в случае появления предрождественских общенациональных каникул: они будут убегать в монастыри. Детей в охапку – и поговеть к святыням, подальше от "народных артистов". Так что государству, которое предлагает нам этот свой дар, мы скажем словами знаменитого спиричуэлса: Let my people go! ("Отпусти мой народ!"; так Моисей просил египетского фараона). Дар берем. И на эти дни уходим от вас подальше.
Идея праздновать 4 ноября как день России хороша. Это день освобождения Москвы, а не захвата Варшавы. День народного порыва, а не просто властного решения. Но два обстоятельства смущают меня в этом празднике.
Первое: ведь это победа над поляками. Неужто для России это равновеликий противник? Вот он, итог века революций: мы оказались в стране, которая самой славной страницей своего прошлого считает победу над Польшой, а свое будущее освещает мечтой о том, чтобы догнать Португалию.
Второе: в дневнике некоего польского офицера тех лет я встретил следующую запись: "4 ноября русские опять пошли на приступ к Китай—городу и благодаря Богу, были отбиты… 7 ноября русские вошли в крепость с великою радостию, а в нас это вызывало великую скорбь и сожаление"[26]. А раз так – то стоило ли переносить день привычного празднества?
Но самое странное в предлагаемой праздичной реформе – это ее половинчатость: отменяя день Октябрьской революции, предлагается праздновать день революции Февральской.
Речь идет о празднике 23.02/8.03. Это одна и та же дата, просто переданная в двух календарных стилях – "старом" и "новом". Как 13 января – "старый новый год", так 8 марта – "старое 23 февраля" ("Правда" писала в 1917 году: "Задолго до войны пролетарский Интернационал назначил 23 февраля днем международного женского праздника"[27]).
А в 1917 году именно 23 февраля началась февральская революция. Но поскольку большевики в ней участия не принимали, то праздновать ее годовщину не хотели. Но как революционеры – и уклониться от празднования дня "свержения самодержавия" не могли. Вот и был создан миф о боевом крещении в этот день непобедимой и легендарной Красной Армии.
Это именно миф. Не было еще ни Красной Армии, ни тем более ее побед. "В течение всего 23 февраля большевики и левые эсеры еще делали жалкие попытки сформировать хоть какие—то вооруженные отряды. Безуспешно"[28]. Газеты конца февраля 1918 года не содержат никаких победных реляций. И февральские газеты 1919 года не ликуют по поводы первой годовщины «великой победы». Лишь в 1922 году 23 февраля было объявлено Днем Красной Армии.
Вот записи двух современников. Бывший император Николай II: "12/25 февраля 1918. Сегодня пришли телеграммы, извещающие, что большевики, или, как они себя называют, Совнарком, должны согласиться на мир на унизительных условиях германского правительства, ввиду того, что неприятельские войска движутся вперед и задержать их нечем! Кошмар"[29]. Новый диктатор – В. И. Ленин: «Неделя 18—24 февраля 1918 года… Мучительно—позорные сообщения об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже нарвскую позицию, о неисполнении приказа уничтожать все и вся при отступлениии; не говорим уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве. Горький, обидный, тяжелый – необходимый, полезный, благодетельный урок!… Мы обязаны подписать, с точки зрения защиты отечества, самый тяжелый, угнетательский, зверский, позорный мир» («Трудный, но необходимый урок»). И это после якобы одержанной победы?
Вечером 24 февраля немецкий отряд численностью не более 200 человек без боя овладел городом. В тот же день, 24 февраля, пали Юрьев и Ревель (ныне Тарту и Таллин). Прорыв, не удавшийся мощной группировке генерал—фельдмаршала фон Гинденбурга в 1915 году, осуществили – фактически без потерь – небольшие и разрозненные германские подразделения, скорость продвижения которых ограничивала не ярость народно—большевистстского сопротивления, а степень непроходимости российских шоссейных и железных дорог… После октябрьского переворота Германия свои наиболее боеспособные дивизии перебросила на Западный фронт. В России линию фронта обозначали дивизии "ландвера" – по сути, ополчения. Они должны были напоминать большевикам об обязательствах, которые те взяли на себя перед немецким Генштабом: вывести Россию из войны на условиях, выгодных Германии. Большевики медлили с подписанием капитуляции, тянули время. И вот 16 февраля немцы начали продвижение вперед, напоминая, что даже предатели должны держать свое слово…
23 февраля в 10.30 утра Германия, наконец, представила свои мирные условия, потребовав дать ответ на них не позднее чем через 48 часов[30]. После якобы одержанной победы под Псковом и Нарвой вечером 23 февраля ВЦИК собрался для принятия продиктованных германским правительством условий безоговорочной капитуляции. В 7 часов утра 24 февраля Ленин телеграфировал в Берлин: «Согласно решению, принятому Центральным Исполнительным Комитетом Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 24 февраля в 4 1/2 часа ночи, Совет Народных Комиссаров постановил условия мира, предложенные германским правительством, принять и выслать делегацию в Брест—Литовск»[31].
Так что 23 февраля 1918 года – это позорнейший день военной истории России. День капитуляции в первой мировой войне, точнее – во Второй Отечественной войне (так она именовалась в 1914—1917 гг. в русской печати). Капитуляции по воле Интернационала, превратившего "войну империалистическую (точнее – Отечественную) в войну гражданскую".
Не день это защитника Отечества а, в лучшем случае, "день красной армии". А защищала ли в 1918 году эта красная армия Отечество – это, мягко говоря, сложный вопрос. И то, что день защитника Отечества празднуется сегодня не в день Куликовской битвы, не в день Бородина, не в день рождения Жукова или день св. Александра Невского, а в день капитуляции, – это еще один признак атрофии нормального национального чувства в русском народе.
Именовать 23 февраля "Днем Российской армии" и "Днем защитника Отечества" просто непристойно. Хотя бы потому, что одно из условий той капитуляции с каждым годом становится все более и более тяжелым и очевидным: отделение Украины от России. Граница России и Украины была проведена немецким штыком. Это означало, что в состав Украины были включены города, которых просто не было в момент соединения Украины и России в XVII веке (например, Одесса). Земли, которые были "диким полем", коридором для крымско—татарских набегов на Москву, были освоены не гетманами, а Российской Империей (потемкинские деревни были настоящими). О том, что история этих земель не во всем совпадает с историей собственно Украины, зримо напомнили недавние президентские выборы: именно эти области голосовали ощутимо иначе, чем области, расположенные на правом берегу Днепра… Но немцы решили отрезать Донбасс от России. Большевики согласились. И даже при создании СССР границы Украины остались в пределах Брестского договора. По этим же искусственным границам и прошла линия нынешнего разлома.
Так что 23 февраля и 8 марта – не просто "мужской" и "женский" праздники. Для тех, кто желает помнить родную историю дальше, чем на 30 лет, это напоминание о все той же Русской Катастрофе ХХ века.
Еще одно разделение России с Украиной (Белорусией и т. д.) произошло 12 июня 1991 года – когда Ельцин провозгласил "суверенитет РСФСР", а по сути – выход возглавляемой им республики из состава СССР. И почему же этот день мы должны считать праздником? Логичнее день суверенитета России отмечать в память о венчании на царство первого русского царя – Ивана Васильевича Грозного… Конституции приходят и уходят. А Москва впервые стала столицей самостоятельного ("самодержавного") государства именно в тот день.
Россия – страна с непредсказуемым прошлым. Каждая новая власть стремится взять контроль над школой, а, значит, над учебниками, и следовательно, над историей. И поэтому в качестве общенационального дня надежней было бы избрать день без исторического предисловия, без конкретного событийно—символического сюжета, который может перетолкован так или иначе. В этом празднике главным стала бы идея, а не историческое событие. Не то, что произошло в прошлом, а то, что происходит и есть всегда. Общенациональным мог бы стать, например, День Матери. Дату для него можно было бы избрать с том, чтобы хотя бы у части людей были особые ассоциации с ним. Например – 21 сентября. День Рождества Богородицы. Это еще и день Куликовской битвы. Так что разным людям была бы дана возможность выбрать в спектре значений этого дня. Но государство от своего имени предлагало бы участие только в его "общечеловеческой" составляющей.
А вообще такого рода праздники могли бы устанавливаться с учетом лишь одного фактора: психологического. Когда люди (и дети) устают в беспросветной череде будней, стоит дать им возможность отдыха. Конечно, хорошо сумрачные и короткие дни ноября разрядить фейерверком праздника.
Я бы хотел видеть в нашем календаре два праздника: День русского народа и День народов России. Их могла бы разделять неделя. И в этой неделе умещались бы детские осенние каникулы.
Смысл первого праздника вполне понятен: сегодня русский народ – это, говоря языком ООН, "разделенная нация". Нация, разрезанная границами и разбросанная по всему миру. Нация вымирающая, утратившая веру в свое будущее. Федеральные СМИ до сих слово "русский" произносят запинаясь, с чувством смущения, предпочитая иметь дело с "россиянами". Мы не радуемся другу другу, потеряли чувство естественной национальной солидарности и традиции взаимопомощи. 52% – женщины – имеют право на свой праздник (я не против Женского Дня, но мне хотелось бы, чтобы это был день женщин, а не революционерок). А 75% – русские жители России – разве не могут иметь свой день?
Ну, а объяснять необходимость праздника, который напоминал бы о федеративном устройстве нашего государства и о его многоликой национальной структуре, излишне. Как праздновать дни интернациональной дружбы, нас учить также не надо. Это как раз в нашей школьно—государственной традиции.
В общем – хорошо, что в поисках поводов для государственных праздников стали смотреть за рамки советского периода в истории нашей страны. Но признать нынешнюю праздничную реформу логичной и целостной трудно. С точки зрения чисто календарной мы вернулись к сумятице 1920 года. Тогда Екатеринодарский областной отдел труда и бюро профсоюзов установили следующий перечень праздничных дней: Новый год, первый и второй день Рождества, Крещение, "день 9 января", "день ниспровержения самодержавия" (12 марта), день народной коммуны (18 марта), Благовещение, Страстная суббота, Светлый понедельник, 1 мая, Вознесение, Духов день, Преображение, Успение, 7 ноября[32].
– Может ли священник быть для паствы «политическим учителем», т.е. рекомендовать за кого голосовать или говорить о своих политических взглядах?
– Я думаю, что говорить священник может – он тоже человек. Но только в частном общении, а не с церковного амвона. Служба кончилась, подошел прихожанин и спросил о чем—то интернсном именно для него: «а как вы об этом думаете, каково ваше мнение». Ответить можно, даже если вопрос о политике. Нельзя лишь а) выдавать это свое мнение за позицию всей Церкви; б) нельзя ставить под сомнение полноту православности вопрошающего прихожанина, если окажется, что он со священником в этом политическом вопросе все же несогласен.
Священник может сказать, что вот такая позиция мне симпатична, вот такому политику я пока доверяю. Но нельзя из этого делать вывод, что и все остальные чада Православной Церкви должны отдать свои голоса упомянутому лицу.
Когда мне приходится говорить на эту тему (конечно, не в храме, а в лекционных аудиториях), то я это делаю только за рамками самой же лекции – в ходе послелекционной дискуссии.
В России периодически случаются стихийные бедствия под названием выборы. Они длятся по полтора—два месяца. Я не считаю, что на это время я должен отказываться от работы и не появляться на людях. А поскольку у людей в эти дни повышенная политическая температура, они, конечно, спрашивают меня и о том, что я могу сказать по поводу тех или иных кандидатов (местных или федеральных). Если различия между кандидатами мне известны и кажутся значимыми с точки зрения интересов Церкви, то я не ухожу от ответа. Правда, в этих своих ответах стараюсь опираться не на газетные сообщения, а на личный опыт общения с теми или иными политическими лидерами.
– А священнику легко удержаться от соблазна стать еще и политическим лидером?
– Если это настоящий священник, то легко. Потому что он обращается к той глубине человека, которая не затрагивается политической идеологией. Имя этой глубины – образ Божий, а не образ политического лидера.
Это не—партийность хорошо передана в стихотворении Владимира Соколова, написанном в самую страстно—политическую и перестроечную пору – в 1989 году:
…Так звездочет, звездой влекомый,
Оказывается ни с чем,
Когда его любой знакомый
Хватает за рукав: ты с кем?
Ему, когда он глаз не сводит
С отрады будущей земной,
И в голову—то не приходит
Спросить, озлясь: а кто со мной?
С ним никого, с ним только вечность.
…Ни крыши нет, ни потолка,
ни стен… Он брошен в бесконечность,
А там не смотрят свысока.
Он в апогее, он в зените,
Он в перигее звездных стуж…
А что он ест? Повремените!
Вы не кормильцы этих душ.
Он долго ищет свет в подъезде,
Но Вифлеемская звезда
Среди нависнувших созвездий
Ему мерцает иногда.
– Как на Ваш взгляд – способно ли православие сегодня стать политической силой? И способна ли современная православная молодежь реально войти в политическую элиту и привнести в нее свои ценности?
– Я думаю, что так вопрос ставить преждевременно – сразу войти в политическую элиту. Когда старшеклассник решает поступать в Университет, он же не ставит пред собой цель сразу стать членом президиума Российской Академии Наук. Ты сначала докажи свое право быть студентом, потом раз в полгода надо доказывать свое право продолжать там учебу. Потом докажи свое право называться кандидатом наук, а потом уже твои заслуги и твой опыт приведут тебя в состав президиума Российской Академии Наук. Также и здесь – надо работать по принципу "глаза боятся, а руки делают".
– Как Вы считаете, появится ли в итоге православная активная востребованная молодежь?
– Отдельные люди есть уже и сейчас. В будущем их будет больше. Но обещать целое поколение молодых православных политиков – это было бы дерзостью. Ведь культура политического действия, как и любая культура, подобна английскому газону – она вырастает не за неделю, а за несколько столетий.
– Мне доводилось слышать, что в церковных кругах разрабатывается своя социальная программа. Что такое социальная программа Церкви? Если она предусматривает некий выход на общество, на те проблемы, что не удается решить светской власти, то как это пересекается в двух различных мирах?
– Вернее говорить о социальной концепции. И речь не о том, чтобы предложить обществу какую—то программу действий. Речь идет о том, чтобы мы, церковные люди, сами осознали для себя возможные координаты нашей оценки тех или иных вызовов современности.
Проблема биоэтики, генной инженерии, контрацептивов, клонирования – вот новые вызовы, на которые не могли ответить богословы прошлых веков. Вопросы новые, но ответить на них мы должны как люди ортодоксальной христианской традиции. Потому наша концепция вызвала немалый интерес у западных богословов. На Западе социальные доктрины тех или иных церквей известны давно. Но у них есть вполне сознательная установка на обновление. Русская же Церковь сознательно позиционирует себя в качестве ортодоксальной, консервативной – и при этом в обществе, которое радикально меняется, где трансформация происходит гораздо быстрее, чем, например, в Бельгии или Италии. Поэтому к нашей концепции интерес особый: как все это совместить?
Но изначальной установкой при разработке нашей социальной концепции было – уйти от политики. Мы исходили из того, что социальная концепция Русской Православной Церкви – это концепция для всей Церкви, а не только для России… То есть она адресована и православным людям в Прибалтике и в Молдавии, Украине и в США, Германии и Японии. Поэтому там нет оценки деятельности российских правительств и вообще никак не упоминается политический контекст современной жизни в России.
– Да, Основы Социальной Концепции РПЦ в виде документального свода – это в своем роде эксклюзив, этого нет ни в одной из национальных Православных Церквей. Какие проблемы они затрагивают и в чем смысл их принятия именно в наше время?
– Дело в том, что за все 20 веков христианской истории схема взаимоотношений Церкви и государства не отличалась особым разнообразием. В течение всех двух тысяч лет нашей истории Церковь бывала только в двух возможных социальных ситуациях: первая – когда гонят нас; вторая – когда гоним мы. Триста лет Римская империя гнала христиан, потом полторы тысячи лет христиане гнали всех остальных, потом коммунисты опять гнали христиан…
И только в нынешних условиях отделенности, дистанции стало возможно общение и диалог, порою переходящий во взаимную критику. Ведь когда Церковь и государство составляли единое целое, тогда не до диалога. Между левой и правой рукой никакого диалога быть не может. И с палачами тоже какой уж диалог…
Принятие Социальной концепции на Архиерейском соборе 2000 года означает, что нынешняя модель от ношений Церкви и государства сохранится надолго. Это модель нейтралитета в диапазоне от благожелательного до холодно—враждебного, но, тем не менее, без открытых гонений. То, что называется свободой совести. Для Православия это впервые: Церковь, существующая в светском обществе.
Концепция исходит из того, что та ситуация, которая сегодня есть в мире – это всерьез и надолго. Государство отделено от Церкви, и Собор в своей социальной концепции признает эту реальность и, более того, находит в этом некий добрый знак, потому что принцип свободы совести – говорится в этой социальной концепции, – это есть способ легального существования Церкви в нерелигиозном окружении. А раз эта разделенность между Церковью и обществом, Церковью и государством – это всерьез и надолго, то мы должны начать диалог, исходя из осознания того, что мир людей населен разными существами.
Сегодня мы разделены. А, значит, должны узнать друг друга. Социальная концепция и есть наш откровенный рассказ светскому обществу о том, какими мы хотим видеть наши отношения.
Основы социальной концепции – это честное декларирование того, какие цели мы перед собой ставим. Какими мы, Церковь, прошедшая через искушение властью и искушение гонением, видим себя в обществе, что мы можем сказать о тех людях, с которыми мы беседуем, в чем мы можем стать на их позиции, в чем не можем. В общем, это есть честное приглашение к свободному диалогу.
Диалог предполагает честную декларацию о том, чего мы хотим в этом диалоге, какие принципы мы отстаиваем, ради чего мы на него идем и, соответственно, где пределы возможных компромиссов. Вот об этом говорит эта социальная концепция. То есть это не только документ, адресованный внутрь самой Церкви, но и документ, адресованный ко всем тем, кто вступает с нами в диалог и общение.
– Откуда появились идеи, заложенные в Основах Социальной Концепции? Можно ли сказать, что они догматически уже были в церковном обиходе, а потом их только оформили документально?
– Концепция – не догмат. Это не более, чем эскиз, набросок, черновик; отсюда и название: "Основы концепции". Слово же концепция подчеркивает, что это не учение, не доктрина, а некое наше представление о том, что мы пережили в ХХ веке, понимание современной ситуации. Это слово о современности, но сказанное с сознательно консервативных, традиционалистских позиций.
Вот небольшой пример конфликта современности и традиции. Работая над этим документом, мы дошли до такого места, где нужно было высказать отношение Православия к смертной казни. Поначалу все казалось просто: надо заявить протест против смертной казни; это варварство, государство не должно убивать… Ну, а затем митрополит Кирилл сказал: “Подождите, задача Собора – не рассказать о наших с вами предпочтениях, а засвидетельствовать позицию Церкви в ее целостности. Во всевековой целостности. Давайте посмотрим на церковное предание, церковную историю. Какая позиция по этому вопросу была?”. И вот в итоге к следующему заседанию фиксируем: в Ветхом Завете смертная казнь предписывается. В Новом Завете она не отменяется. Как бы не подтверждается, но и не отменяется. В церковной истории последующих веков, в истории христианских государств: Византийской, Российской империи смертная казнь применяется. Значит, что мы можем сказать: нельзя человека извне освобождать больше, чем он освобожден внутри. Нельзя надеяться разогреть всю воду в чайнике, если каждую молекулу не разогреть до точки кипения. Нельзя довести до уровня духовно—нравственного совершенства все общество с помощью внешних законов, если не работать на молекулярном уровне с каждым человеком. И вот оказывается, общество сегодня не готово к отмене смертной казни. Поэтому мы сегодня фиксируем, что, с одной стороны, мы не требуем отмены смертной казни, а с другой стороны, церковь готова поддерживать общественное движение, направленное к отмене смертной казни. Но в итоге церковь не стремится навязать именно свою позицию всему обществу, ожидая, что это решение должно быть результатом согласия самого общества – жить без этого орудия устрашения.
– Помнится, русский философ Николай Бердяев писал, что "лучший период в истории Русской Церкви был период татарского ига, тогда она была наиболее духовно независима. Сегодня Церковь чувствует себя независимой, в том числе и от власти?
– Все мы зависим друг от друга, поэтому отношения власти и Церкви лучше назвать взаимодействием. В вопросы вероучения, собственно церковной жизни, назначение епископов, содержание богословских публикаций государство сейчас не вмешивается. Государство, пожалуй, желает видеть церковную жизнь фактором стабилизации. Но вот тут и возникают проблемы, точнее – противоречия в государственном отношении к нам. Ведь Церковь влияет только на тех, на кого она может влиять[33]. То есть на верующих. И чтобы наше слово стало для кого—то значимым, должно расти число таких людей. «Стабилизировать» бабушек вроде особо и не нужно. Они и так у нас хорошие. Значит, надо обращаться к молодым, в том числе и через монополизированные государством информационные каналы: телевидение и школу. Тут и начинается торможение. Последние несколько лет, например, мы замечаем подковерную борьбу между правительством и администрацией президента по вопросу о введении в школе основ православной культуры. Министерство образования поначалу приветствовало эту идею, но Администрация президента скорее ее торпедировала, хотя президент как бы за Церковь.
Вновь скажу: в условиях свободы, когда государство нейтрально, мы живем только 15 лет из двух тысячелетий нашей церковной истории. Это ново, трудно и интересно. Мы сами делаем ошибки, морщимся от ошибок других. Ведь культура, в том числе культура политического действия Церкви, подобна английскому газону: она должна расти столетиями.
– Известно, что в свое время именно христианство беспримерно подняло авторитет труда. Сейчас наше общество разъедает религия потребления. Один современный ученый справедливо заметил, что мы переняли у Запада культуру отдыха, но не захотели заметить, что Запад умеет не только отдыхать, но и трудиться. В связи с этим возникает вопрос: возможно ли, по—вашему, возрождение аскезы, как черты массовой психологии?
– Русская трудовая этика была. И православная трудовая этика была. Но дело не только в экономических или религиозных условиях. Эта черта русского национального характера связана с нашим климатом. У нас очень долгая зима, и люди, жившие в сельской местности, вынуждены были бездельничать. Русский человек долго запрягает, но быстро ездит. Недавно я читал дневники немецких солдат и офицеров, побывавших в России. Они писали о поразившем их совмещении: русские бывают фантастически ленивыми, даже когда речь идет об их собственной выгоде; и напротив – когда уж они решат работать, то они проявляют невероятное умение, ловкость, силу, организованность, и все могут сделать в мгновение ока. Русский человек может долго жить в полной апатии и равнодушии, а потом за несколько дней может сделать месячную работу. Эта “рваность” характера, импульсивность является, очевидно, достаточно коренной чертой и должны вырасти несколько поколений, прежде чем мы перейдем к городскому ритму жизни, не зависящему от сезонных перепадов. Может быть, наше общество в своих подсознательных пластах еще достаточно аграрно, то есть слишком сезонно, и только с течением времени оно обретет городскую “методичность”.
– Как Вы относитесь к тому, что Церковь активно занимается бизнесом?
– Есть священники совершенно разных складов – более традиционные, для которых, кроме их прихода и службы, ничего нет. Но о таких сразу начинают говорить, что они не от мира сего и безнадежно отстали от жизни и современной цивилизации. С другой стороны, когда встречается священник, способный жить и работать в современном мире и обеспечивать финансовое выживание прихода, его сразу начинают обвинять в том, что он не батюшка, а бизнесмен. Ну, отчего буквально все превращается в повод для осуждения?



