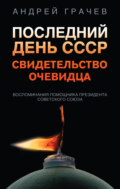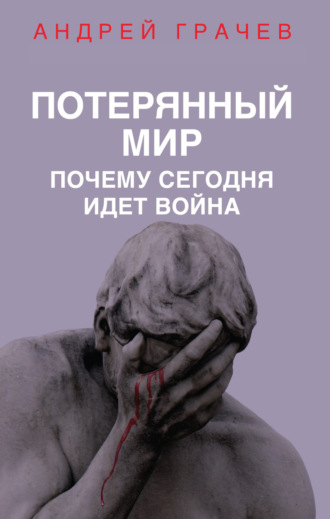
Андрей Грачёв
Потерянный мир. Почему сегодня идет война
Окопная война
Начиная с 1947 года конфронтация между бывшими союзниками поднимается на новый уровень. За окопной войной в пропагандистских траншеях последовала разработка стратегических доктрин и начало их претворения в жизнь. Именно в этом году американцы объявили о своей решимости противостоять любыми методами – прежде всего военными – распространению коммунистической экспансии, где бы она ни пыталась утвердиться.
Первым полем этого столкновения стало Средиземноморье. Говоря об этой чувствительной зоне мира, американский президент высказал свою позицию в выступлении перед Конгрессом 12 марта: «[Соединенные Штаты твердо решили] поддержать свободные народы, сопротивляющиеся попыткам подчинения вооруженным меньшинством или внешнему давлению». На практике «доктрина Трумэна» предусматривала предоставление американским правительством военной помощи двум странам, которые рассматривались как стратегические бастионы Запада в этом регионе, – Греции и Турции. Одновременно в Средиземное море вошел, чтобы в нем остаться на постоянной основе в последующие десятилетия холодной войны, 6-й флот США.
Такой выбор американский посол в Париже Джефферсон Кэффери объяснял своему советскому коллеге Александру Богомолову во время дипломатического приема: «Греция и Турция – это ближневосточная нефть. Мы (американцы) готовы смириться с тем, что вы заглотили прибалтийские республики, но вы хотите вытеснить нас с Балкан и слишком приближаетесь к Ближнему Востоку».
В действительности это признание Кэффери – всего лишь напоминание о «пакте Куинси» – соглашении, заключенном по пути в Ялту 14 февраля 1945 года Рузвельтом с королем Саудовской Аравии Ибн Саудом. Этот пакт предоставлял американским нефтяным компаниям монопольное положение в стране, при этом другое соглашение позволяло США разместить свою военную базу в Дахране.
Для Трумэна повод сформулировать «ответ Америки на волну экспансий коммунистической тирании» представился весной 1947 года, когда американцы стали опасаться победы коммунистов в гражданской войне в Греции. Трумэн подозревал Сталина в том, что тот оказывает грекам поддержку. В своих «Мемуарах» он напишет: «В конце февраля настал момент четко обозначить место и руководящую роль США во главе свободного мира».
На самом деле Сталин продолжал соблюдать разграничительную линию между Советским Союзом и Западом, проведенную карандашом во время встречи с Черчиллем в 1944 году, согласно которой Греция отходила под контроль Запада. Как писал в своих мемуарах Джилас, Сталин сказал во время своей встречи с представителями Югославии и Болгарии, предложившими ему поддержать греческих коммунистов путем военного вмешательства: «Как вы это себе представляете? Что Великобритания и Соединенные Штаты, самые могущественные морские державы в мире, вам позволят нарушить линии соприкосновения в Средиземном море? Какая глупость! У нас к тому же нет флота. Выступления греческих товарищей следует прекратить как можно скорее». За этим распоряжением Кремля последовали кровавые расправы монархистов с греческими коммунистами, стоившие многим из них жизни и отправившие в изгнание тысячи участников греческого сопротивления нацистам.
«Доктрина Трумэна», естественно, облекала новые стратегические цели американской политики в идеологическую риторику. «Каждая нация, – заявлял американский президент, – находится отныне перед выбором между двумя образами жизни. Первый основан на воле большинства, демократических институтах, представительном правительстве, свободных выборах, гарантиях индивидуальных свобод, совести и гарантиях против политических репрессий. Другой образ жизни основан на воле меньшинства, которая силой навязывается большинству. Она опирается на террор и подавление, на контроль за прессой и радио, мошеннические выборы и подавление демократических свобод».
Генри Киссинджер в своей книге «Дипломатия» пишет, что речь Трумэна стала водоразделом. В своем выступлении американский президент бросал советским руководителям не только стратегический, но и моральный вызов. Отныне новый мировой конфликт мог быть разрешен только «либо изменением целей советской политики, либо самой политической системы, либо тем и другим». Объявленной целью американской политики становилось, таким образом, «не восстановление баланса сил на мировой арене, а трансформация советского общества».
Отныне новый мировой конфликт мог быть разрешен только «либо изменением целей советской политики, либо самой политической системы, либо тем и другим». Объявленной целью американской политики становилось, таким образом, «не восстановление баланса сил на мировой арене, а трансформация советского общества».
Ответ Сталина на «доктрину Трумэна» последовал через несколько месяцев. В сентябре 1947 года во время конференции в Польше, где собрались представители девяти коммунистических партий стран Восточной Европы, Франции и Италии, главный московский идеолог Андрей Жданов представил концепцию, которая останется в истории холодной войны как «доктрина Жданова».
В докладе «О международной ситуации», безусловно, одобренном Сталиным, Жданов повторяет буквально слово в слово идею о «двух образах жизни» американского президента. Он упоминает о разделении мира «на два основных лагеря»: «С одной стороны, империалистический лагерь сил, враждебных миру и демократии, с другой, – антиимпериалистический лагерь демократических и миролюбивых сил». Согласно Жданову, «Америка порвала с прежним курсом Рузвельта, перейдя к другой политике – подготовке новых военных авантюр». Политика экспансии США «в точности напоминает авантюрную программу фашистских агрессоров, которые тоже претендовали на мировое господство и бесславно закончили».
Конференция в Польше объявила о создании Коминформа (информбюро крупнейших европейских компартий). В отличие от Коминтерна – Коммунистического Интернационала, созданного Лениным для подготовки мировой революции, – Коминформ должен был стать «главным оплотом антиимпериалистической и антифашистской политики», то есть политическим и пропагандистским инструментом на службе внешней политики СССР.
Вторая половинка ореха
Сталин выжидал несколько месяцев, прежде чем сформулировать свой ответ на военную доктрину Трумэна. Это объяснялось необходимостью отреагировать на второй, экономический аспект американского вызова – план Маршалла.
Представленный спустя три месяца после провозглашения «доктрины Трумэна» 5 июня 1947 года американским госсекретарем Джорджем Маршаллом в Гарвардском университете, этот план излагал стратегию спасения Европы от коммунизма. Он предусматривал субсидии европейским странам, разрушенным войной, в размере 13 миллиардов долларов сроком на 4–5 лет с целью «восстановления их экономики и создания политических и социальных условий для существования свободных институтов».
Эта программа, предназначенная для восстановления разрушенной войной Европы, позволяла, писал Генри Киссинджер, «избежать политических проблем и проявления недовольства, которые бы способствовали расширению влияния коммунистических партий». «Правительства, партии и политические группировки, стремящиеся спекулировать на нищете населения, чтобы извлечь из этого политическую выгоду, встретят отпор Соединенных Штатов», – заявлял, представляя свой план, Джордж Маршалл.
В своих «Мемуарах» Трумэн подтверждает, что помимо помощи Европе в том, чтобы подняться из развалин войны и экономической разрухи, его план предусматривал также защиту от угрозы коммунизма. По словам Трумэна, его военная доктрина и план Маршалла были «двумя половинками одного ореха».
Европейские союзники США разделяли эту цель. В начале 1947 года председатель Совета министров Франции Поль Рамадье, приехав в Вашингтон, убеждал американцев в том, что без существенной экономической поддержки его правительство не сможет устоять под напором коммунистов.
(Может показаться парадоксальным, что аналогичные аргументы приводил Горбачев в июле 1991 года на встрече с руководителями стран «Большой семерки» в Лондоне. В своем выступлении советский президент упомянул об экономическом истощении страны и предупредил западных партнеров: возможен приход в Кремль генералов в случае, если Запад не поддержит перестройку экономически, предложив СССР на переходный период своего рода новый «план Маршалла». Военный путч в Москве подтвердил его опасения несколько недель спустя).
Первая реакция Сталина на план Маршалла была позитивной. Отдавая себе отчет в бедственном экономическом положении СССР, он видел в нем новую версию программы ленд-лиза, способную спасти советскую экономику, тем более что экономическая помощь США предлагалась разоренной Европе в целом, в том числе странам Восточной Европы и Советскому Союзу.
Поэтому первоначально Москва приняла предложение направить в Париж министра иностранных дел Молотова во главе большой делегации экономических экспертов. Однако когда делегация уже находилась в Париже, в Москве задумались о цене, которую придется заплатить за экономическую помощь. Американская программа сопровождалась рядом политических условий. Не только американские инспекторы должны были получить доступ к информации о реальном положении экономики стран, принимавших программу, но и в целом в течение нескольких лет европейское восстановление должно было находиться под наблюдением специально созданного комитета, руководимого Вашингтоном.
Сталин не мог пойти на установление американского контроля не только над советской экономикой, но и над странами Восточной Европы. Оказавшись перед необходимостью выбирать между плюсами экономической помощи Запада и сохранением своего протектората над освобожденной советской армией частью Европы, он сделал выбор.
Для Сталина, как писал французский историк Жорж-Анри Суту, план Маршалла представлял собой «попытку установления американского господства в Европе с намерением восстановить германскую промышленность для последующего использования против СССР».
На резкое изменение его позиции повлияли секретные сведения, полученные советской разведкой о намерении американцев включить в план Маршалла Германию, следствием чего стало бы прекращение выплат репараций Советскому Союзу. Для Сталина, как писал французский историк Жорж-Анри Суту, план Маршалла представлял собой «попытку установления американского господства в Европе с намерением восстановить германскую промышленность для последующего использования против СССР».
Второго июля Молотов заявил об отказе Советского Союза участвовать в программе плана Маршалла и покинул Париж. Газета «Правда» в одночасье изменила тон, квалифицировав план Маршалла как «программу порабощения Европы». Для сохранения стран Восточной Европы в советской орбите нужно было отрезать их от остального континента, вырыв экономическую траншею.
В ночь с 7 на 8 июля Кремль разослал директиву руководителям компартий Югославии, Польши, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Болгарии и Албании с предложением отказаться от участия в парижской Конференции. Руководители всех этих стран за исключением Чехословакии подчинились беспрекословно. Лишь Клемент Готвальд, генеральный секретарь компартии Чехословакии, входившей в многопартийную правительственную коалицию в Праге, высказал оговорки, объявив: «Некоторые члены правительства нас не поддержат».
Разъяренный Сталин вызвал в Москву 9 июля правительственную делегацию Чехословакии. После ночи переговоров, которые свелись к выламыванию рук чехам, делегация, возглавляемая президентом Бенешем, вернувшись в Прагу, созвала чрезвычайное заседание правительства, отменившего свое предыдущее решение. Ян Масарик, беспартийный министр иностранных дел, сын основателя чехословацкого государства, подвел итог этому заседанию в следующих выражениях: «Я отправился в Москву еще свободным человеком, а вернулся оттуда сталинским батраком».
Для компенсации потерянной выгоды от американской помощи Сталин предложил странам, которые вынудил от нее отказаться, альтернативную программу экономического сотрудничества. За 36 дней СССР подписал 12 коммерческих соглашений между Советским Союзом и восточноевропейскими государствами. Впоследствии альтернативой «плану Маршалла» станет СЭВ (Совет Экономической Взаимопомощи), созданный в 1949 году.
Что касается коммунистических партий в западных странах, то, согласно докладу Жданова, им отводилась задача противостояния американскому плану «порабощения Европы» в тылу противника.
«Доктрина Жданова», зеркально отражавшая черно-белую логику «доктрины Трумэна» и вдохновлявшаяся формулой «кто не с нами, тот против нас», стала еще одним символом пока еще невидимого барьера, разделившего Европу, за 14 лет до возведения настоящей Берлинской стены.
«Доктрина Жданова», зеркально отражавшая черно-белую логику «доктрины Трумэна» и вдохновлявшаяся формулой «кто не с нами, тот против нас», стала еще одним символом пока еще невидимого барьера, разделившего Европу, за 14 лет до возведения настоящей Берлинской стены. Приняв форму столкновения между противоположными идеологическими проектами, едва начавшаяся холодная война стала все более напоминать классический конфликт между супердержавами за передел сфер влияния.
Логика конфронтации начала влиять на политический климат внутри каждого лагеря. Для формирования двух армий разгоравшейся холодной войны их лидеры занялись наведением порядка в своих рядах. Для оправдания новой войны помимо внешних надо было назначить и внутренних врагов. Эту роль отводили разнообразным «предателям»: иностранным агентам, шпионам, членам «пятой колонны».
Уже в 1946 году Уинстон Черчилль задал тон своей речью в Фултоне, упомянув внутренних врагов, представленных «пятой колонной коммунистов, внедрившихся и работающих в полном согласии и подчинении директивам коммунистических центров, которые представляют собой вызов и все возрастающую опасность для христианской цивилизации». В ноябре 1947 года Джордж Маршалл делился со своим окружением подозрениями: «Советские намерены подталкивать французские и итальянские компартии к разжиганию гражданских войн во Франции и Италии».
Постепенно коммунисты, входившие в период с 1944 по 1947 год в коалиционные правительства во Франции, Италии, Бельгии, Финляндии, Люксембурге, Австрии, Греции, Исландии, Норвегии и Дании, были вынуждены их покинуть. Их изгнание было условием предоставления помощи по плану Маршалла и получения первых кредитов.
Следуя той же логике, восточноевропейские «страны народной демократии» отказывались одна за другой по приказу из Москвы от декоративных народных фронтов и изгоняли из правительств своих некоммунистических попутчиков. Все это сопровождалось безжалостными кампаниями идеологических чисток и жестоких репрессий. Политическая инквизиция принимала кровавые формы. Парадоксальным образом жертвами репрессий чаще всего становились самые преданные сторонники Сталина в верхних эшелонах руководства коммунистических партий.
Логика конфронтации начала влиять на политический климат внутри каждого лагеря. Для формирования двух армий разгоравшейся холодной войны их лидеры занялись наведением порядка в своих рядах. Для оправдания новой войны помимо внешних надо было назначить и внутренних врагов. Эту роль отводили разнообразным «предателям»: иностранным агентам, шпионам, членам «пятой колонны».
Вполне логично, что Чехословакия, где сохранилась подлинная многопартийная коалиция, испытала эффект холодного душа от объявления мировой политической зимы, провозглашенной «доктриной Жданова». В феврале 1948 года демонстрация силы, организованная коммунистической партией на улицах Праги, собрала 200 тысяч участников, которых сопровождали вооруженные отряды рабочей милиции. Глава государства Эдвард Бенеш был вынужден поручить Клементу Готвальду сформировать правительство, где единственным членом, не состоявшим в компартии, был Ян Масарик, министр иностранных дел.
Спустя тринадцать дней он покончил с собой, выбросившись из окна своего министерства. Он оставил письмо, адресованное Сталину: «В Чехословакии уже невозможно говорить свободно. А без свободы я не могу жить. Мне остается только умереть в полном молчании. И тогда моя смерть не послужит поводом для тех, кто хотел бы развязать гражданскую войну». Несколько месяцев спустя, 7 июня, пришла очередь президента Бенеша объявить о своей отставке.
Волна печально известных «сталинских процессов» обрушилась на все страны Восточной Европы. На этот раз речь не шла о троцкистах, меньшевиках и других «уклонистах» всех мастей, а о первых лидерах «братских» партий, таких как Владислав Гомулка, Ласло Райк, Имре Надь, Трайчо Костов, Рудольф Сланский и других, объявленных агентами империализма и, хуже того, приспешниками Тито или сионистами. Большинство осужденных были казнены. Некоторые, как Сланский, Гомулка или Анна Паукер, за несколько месяцев до этого сидели в президиуме рядом со Ждановым во время Конференции коммунистических партий в Польше. Они аплодировали его выступлению и вместе с другими единодушно голосовали за создание Коминформа со штаб-квартирой в Белграде, столице Югославии, еще не объявленной «логовом титоистов».
Если лобовое столкновение между Сталиным, Трумэном и Черчиллем легко объяснить не только политическими разногласиями, но также конфликтом характеров, то ссора Сталина с Тито, напротив, происходила большей частью от их сходства. Оба были убежденными коммунистами, отлитыми в одной идеологической формочке. Личный престиж каждого из них многократно вырос благодаря статусу военачальника. Этим и объясняется тот факт, что оба с бо́льшим удовольствием носили мундиры маршалов, чем обычные костюмы генеральных партийных секретарей.
Их личные отношения, очень теплые в конце войны – Тито, прилежный ученик школы Коминтерна, где был известен под кодовым именем «Вальтер», превозносил Сталина как неоспоримого Вождя, – начали портиться с того момента, когда Кремль вознамерился ввести жесткую дисциплину внутри своего лагеря. Напомним, что руководитель югославских коммунистов был практически единственным национальным лидером в восточноевропейских странах, кто не был обязан Красной армии своей руководящей должностью. Свою легитимность бесспорного национального лидера он завоевал собственной ролью в борьбе против нацистских оккупантов.
Уже сразу после войны Тито отказался сформировать коалиционное правительство, как того требовал Сталин, согласно своей первоначальной тактике создания союзов и народных фронтов в странах Восточной Европы. Кроме того, Тито был уязвлен отказом Кремля поддержать территориальные претензии Белграда на Триест, оккупированный англо-американскими войсками. Он намеревался создать под своим протекторатом конфедерацию, которая объединяла бы Югославию, Болгарию и Албанию с возможным распространением на Грецию.
Тлеющий конфликт между Сталиным и Тито разгорелся с того момента, когда, порывая с доктриной Жданова, югославские лидеры заявили о своем несогласии с разделом мира на два враждебных лагеря. Они отвергали принцип раздела сфер влияния между великими державами – советской и американской. Сталин воспринял это как вызов.
После отзыва в марте 1948 года советских экспертов и военных советников компартия Югославии была исключена из Коминформа. С этого момента бывшая «братская партия» превратилась в «клику Тито». Все сторонники югославской политики, включая робких диссидентов в других партиях в странах Восточной Европы, должны были понести суровое наказание. В результате чисток «титоистов» более 30 тысяч коминформовцев были отправлены в концлагеря.
По ту сторону Атлантического океана в Соединенных Штатах холодная война приведет к «охоте на ведьм» (коммунистов и их сторонников) и достигнет апогея во времена маккартизма в начале 1950-х гг. Но антикоммунистическая паранойя воцарилась уже в конце 1940-х гг.: логика холодной войны требовала, чтобы истинные патриоты очистили американское общество от агентов Москвы.
В годы, когда свирепствовал маккартизм, антисоветская и антикоммунистическая паранойя в США приняла оруэлловские масштабы. Американское министерство юстиции приступило к созданию списка «подрывных организаций». А в рамках выработки федеральной Хартии лояльности от бывших коммунистов официально требовали доносить на своих коллег для подтверждения своей гражданской лояльности.
Как объяснял американский поэт и писатель, профессор Арчибальд Маклиш в своей книге «Свобода – это право выбирать»[4]: «Никогда в мировой истории ни один народ не был столь порабощен интеллектуально и морально другим народом, как американцы русскими в течение четырех лет с 1946 по 1949 г. Внешняя политика США представляла собой зеркальную противоположность русской внешней политики: неважно, что делают русские, мы все сделаем наоборот».
Атмосфера ожидания атаки советских войск, которую Джордж Кеннан назвал «истерией», имела в результате как минимум одну громкую символическую жертву: в мае 1949 года бывший американский министр обороны Джеймс Форрестол, приглашенный Гарриманом провести у него уик‑энд, покончил с собой, выбросившись из окна с криком: «Русские идут!» На почве антисоветской паранойи он заработал психическое расстройство.