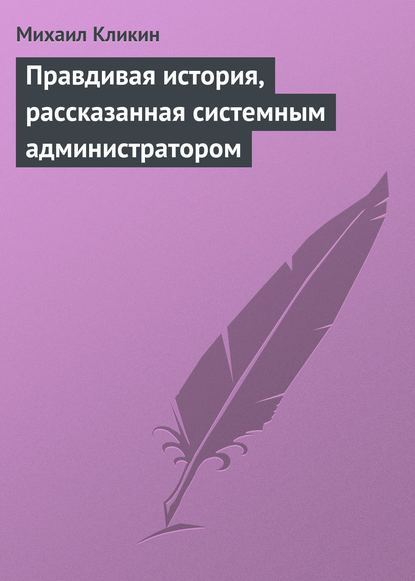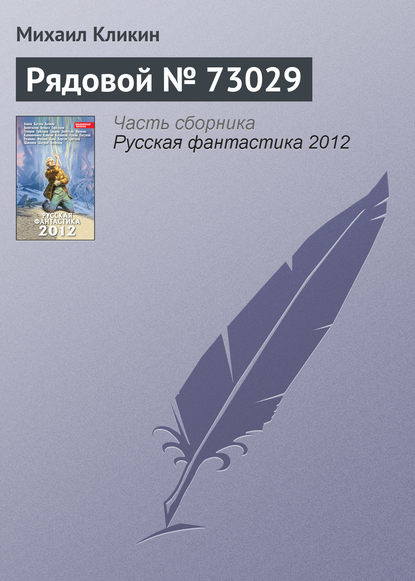- Рейтинг Литрес:4.2
- Рейтинг Livelib:3.7
Полная версия:
Михаил Кликин Мистериум. Полночь дизельпанка
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Мистериум. Полночь дизельпанка. Антология
Составитель Сергей Чекмаев
Мне кажется, я должен записать свои мысли. Рабочие дневники исследователя, которые останутся после меня, мало кому интересны – разве что таким же ученым сухарям. Но все, что я думал, ощутил и пережил помимо этого, все, чем я дышал во время работы в Мискатонийском университете, необходимо сохранить для будущего.
Пока я еще могу писать собственной рукой, пока мои глаза все еще принадлежат мне.
Пока еще помню, кто я такой, и могу рассказать вам об этом.
Не думаю, что моя история послужит кому-то уроком или предостережением: в наши дни происходит слишком много странного и страшного. Свидетельством тому – письма.
Не знаю, почему все эти люди пишут именно мне.
Я приехал в этот старинный университет три года назад, и все три года письма идут нескончаемым потоком. Напечатанные дорогой пишмашинкой на хорошей бумаге и наспех начерканные от руки на обрывках газет и сигаретных пачек.
Впрочем, нет. Одно письмо, самое первое, уже ждало меня. Судя по штемпелю, его отправили примерно за месяц до Пришествия, отправили именно мне, в этом не может быть сомнений, – в Мискатонийском университете тогда не было русских профессоров. Кроме меня, их нет и сейчас.
Тогда, в июле 1939-го, я еще даже не родился. И все это время письмо лежало в ящике для корреспонденций: я нашел его в первый же день, едва только служащий показал мне рабочий кабинет. Совет попечителей весьма благосклонно отнесся к рекомендательным письмам и сразу же дал разрешение на исследования. От щедрот мне выделили библиотечные часы, допуск в архивы и пыльный, пропахший канцелярским клеем и сажевыми чернилами кабинет. Похоже, он так и простоял пустым с самого открытия Мискатоника.
А что, если и письмо ждало меня с того дня? Оно не выцвело, не покоробилось, бумага сохранила первоначальный цвет. И даже карандашные буквы остались такими же: местами слабыми и дрожащими, а местами – жирно выделенными. Там, где у автора, похоже, ломался карандаш. Или решимость.
Долина коз
Татьяна и Юрий Бурносовы
Основано на реальных событиях, все имена и фамилии изменены
– Девочки, мне показалось, или кто-то в окно поскребся? – испуганно спросила Клавка, садясь в кровати. Ее ночная рубашка засеребрилась в лунном свете.
Оленька вскочила и прижала к оконному стеклу хорошенький курносый нос.
– Не видать… ой! Вот он!
– Кто?! – вскрикнула Клавка. – Черт?!
В полутьме раздались сдавленные смешки, кто-то заверещал в притворном испуге. Оленька отвернулась от окна и шикнула на нее:
– Тсс, тише ты! Всю Шарикову дачу перебудишь… Придумала тоже – черт…
– Ты же комсомолка, Кочубей, как тебе не стыдно? – спросила из угла Вера нарочито строгим голосом.
Девчонки снова прыснули. Словно вторя им, у столовой зафыркала и коротко заржала Звездочка – пегая дружелюбная лошадка, специально приставленная к Академической художественной даче для извоза продуктов.
– Клавка своими криками даже лошадь разбудила, – захихикала Лида Судакова.
Кочубей обиженно легла на свою койку, скрипнув панцирной сеткой, и накрылась одеялом с головой. Оленька потихоньку вытянула шпингалет и приоткрыла створку окна:
– Кто тут?
– Это я, Митяй, – высунулась из-за окна лохматая голова. – Девчата, винца хотите? Я у местного сторожа на винограднике выклянчил.
– А оно хмельное? – игриво спросила Оленька.
– Ой, хмельное, – мечтательно протянул Митяй и почмокал губами.
– Давай! – Оленька перекинула за спину толстую русую косу, высунулась в окно по пояс и протянула руку.
– Так вы пустите, я вам налью… А то как-то не по-человечески: я с гостинцами пришел и стою тут под окном, как распоследний Ромео.
Девушки в спальне возмущенно зашумели, захихикали. Вера накинула на плечи платок и тоже подошла к окну.
– Ты вино сюда дай, Ромео, а сам иди. Иди поспи. А то завтра у нас обнаженная натура, а ты не в форме будешь, – насмешливо сказала Вера.
Митяй разочарованно засопел, но большую бутылку, заткнутую кусочком сушеного кукурузного початка, все же отдал.
Вера дождалась, пока фигура Митяя скроется за кипарисами, где в отдельном домике жили парни, и прикрыла окошко.
– На щеколду закрой! – высунулась из-под одеяла Клавка. – Вернется еще и залезет!
– Кто, черт?! – хмыкнула Вера. – Нет, не закрою. Душно же. Лида, стакан давай.
Спальня оживилась. Захлопали дверцы тумбочек, кто-то зажег керосиновую лампу. Девушки, кто в ночных рубашках, кто закутавшись в простыню, перебирались на кровать Веры и усаживались, тесня друг дружку. Вера налила вина в стакан. Понюхала, сделала большой глоток и прикрыла от удовольствия глаза.
– Волшебство!
– Мне сегодня один из виноградарей сказал, что эти виноградники еще древние греки тут насадили… – сказала Оленька и отняла у Веры стакан. – Дай мне, я тоже хочу…
– Один из виноградарей? Так-так… Ну-ка давай рассказывай! – Лида толкнула Оленьку локтем в бок.
– Тише ты! Разольешь! – Оленька глотнула вина и передала стакан Лиде. – Ну что, ну виноградарь… Их тут много же!
– Молодой? Симпатичный?
– Ну, девочки! Перестаньте! Я в столовке утром замешкалась, а вы все без меня ушли. Между прочим, могли бы подождать! Я на вчерашнее место пришла – а там никого! Взмокла вся аж, между прочим! С этюдником же…
– Ты про виноградаря расскажи!
– Так я у него спросила, куда группа пошла. Вот он мне и объяснил.
Вера присвистнула:
– Это же как он подробно тебе дорогу объяснял – от времен Эллады до наших дней…
Девчонки захихикали. Постепенно стакан обошел весь круг и оказался в руках у Клавы. Она поболтала остатками вина, залпом допила их и сунула стакан Вере. Вера снова наполнила его. Клавка схватила с тумбочки мелкое яблочко, протерла его краем ночной рубашки и откусила сразу половину.
– А разве здесь греки жили? Я думала, только татары… – робко подала голос Марея.
– Олька, а твой виноградарь, он из греков или из татар? – тут же подхватила Лида.
– Откуда я знаю?! – рассердилась Оленька и снова перекинула косу за спину.
– Ну глаза, глаза у него какого цвета?
– Глаза… веселые глаза, кажется, черные. И нос такой с горбинкой…
– Ну точно – грек! Аполлон Бельведерский!
Раздался дружный хохот. Клава тоже заливалась тоненьким смехом, прикрывая рот ладошкой: смущалась щербинки между передними зубами. Затем, внезапно посерьезнев, сказала:
– Зря вы смеетесь, девочки. Легенды Древней Эллады гласят, что именно здесь, на Меганоме, расположен вход в царство мертвых.
– Ку-уда?! – округлила глаза Оленька.
Клава важно кивнула:
– Да-да. Именно здесь. Под водой есть специальные пещеры, поэтому так просто туда было не попасть. Но Одиссей дожидался отлива и спускался в гости к Аиду.
В спальне на мгновение наступила тишина.
– Дура ты, Кочубей! – с истерикой в голосе воскликнула Оленька. – Я же теперь спать не буду!
– А ну цыц обе! – прикрикнула на них Вера. Она была самая старшая из студенток, отучилась в училище памяти 1905 года, в выставках участвовала, там ее углядел Грабарь и дал рекомендацию в Суриковку. Веру слушались – и по старшинству, и по характеру она не церемонилась. – То им черти кажутся, то виноградари из царства мертвых… Вы бы к политинформации так готовились!
– Девочки, давайте спать, – примирительно сказала Лида, – вино все равно закончилось. И на этюды вставать завтра рано…
– Так разве завтра нет обнаженки? – хихикнул кто-то.
Вера улыбнулась:
– Обнаженку только Митяй писать будет. Но ему для этого путешествовать в Коктебель придется. Говорят, там до сих пор нудизм процветает.
Девушки разошлись по своим кроватям, перешептываясь и хихикая – видимо, про нудизм… Вера привернула фитиль в керосинке.
– А я вам точно говорю, именно здесь была древняя река Стикс, по которой Харон возил души в царство мертвых, – прошептала в темноте Клавка, но ее уже никто не услышал.
Борис Викторович Таль, которого все студенты, а за ними и весь преподавательский состав называли не иначе, как Борвиталь, проснулся задолго до рассвета. Тихонечко натянул рубаху, полотняные штаны и, ступая еле слышно, вышел во двор.
Вся Академическая дача еще спала. Он побрызгал из рукомойника себе на ладони и глядя в мутноватый обломок зеркала, пригладил редкий рыжий пух, обрамляющий лысину. Отступив назад, он чуть не опрокинул банку с уайт-спиритом, в которой студенты отмачивали кисти после этюдов. На звук из-под крыльца выскочил Шарик, дружелюбный пес безобразной дворовой породы, из-за которого к домику педагогов крепко приклеилось название «Шарикова дача», и весело завилял хвостом.
В это утро воздух был особенно свеж, хотя лето тысяча девятьсот тридцать девятого года выдалось на редкость жарким. Приходилось даже переносить часть пленэров под сень деревьев на территорию дачи. Студенты только радовались – каждый удобный момент отставляли этюдники и прерывали работу веселыми чаепитиями. Педагоги, впрочем, тоже не возражали. А сам Борвиталь даже написал прелестную жанровую картину с девушками-студентками в саду за столом: крупная Вера в плетеном кресле, задорная Оленька с двумя косицами, в красном платьице, Клава Кочубей и прильнувшая к ней Марея – застенчивая, но талантливая акварелистка, которой с трудом давалась письмо маслом.
Полноватый Борвиталь плохо переносил жару, потому-то он и решил захватить рассветные часы для серии зарисовок. Время практики заканчивалось, осталось буквально несколько августовских дней – и в Москву, в Москву… отчетный показ, новый курс…
Борвиталь подхватил этюдник и вышел за калитку. Пес Шарик увязался было за ним, но вскоре отстал, заинтересовавшись чем-то в придорожных кустах. Судя по веселому лаю, охотился на ящерицу или поджарого и драчливого крымского зайца. Не с голоду – питался пес не хуже самих преподавателей, – а исключительно развлечения для.
Борвиталь направлялся на мыс Меганом. В предутренней прохладе взойти на нависающую над морем скалу ему не представлялось сложным. Вон покойный поэт Максимилиан Волошин тоже далеко не худой был господин, а пешком регулярно ходил из своего Коктебеля и в Феодосию, и в Судак, и даже сюда захаживал… Да не один, а с целой когортой маститых художников – тут перебывали и мирискусник Константин Кандауров, и мэтр живописи Богаевский, а в тринадцатом году вместе с ними здесь работали Рогозинский, Оболенская, Хрустачев и совсем тогда еще молодой живописец Людвиг Квятковский. Борвиталь сам читал в шутливой рукописной газетке «Коктебельское эхо», что участников той поездки в Козах ждали «дни работы и зноя, ночи бездумного сна и неожиданных пробуждений из-за сколопендр, пауков и фаланг».
Да и сам Борвиталь не впервые проделывал этот путь, привык уже – и где нога скользит, знал, и где камешек на тропе шатается… Фаланги и сколопендры, слава богу, не попадались.
Шагал Борвиталь легко и даже принялся бормотать себе под нос Мандельштама:
Туда душа моя стремится,За мыс туманный Меганом,И черный парус возвратитсяОттуда после похорон.Как быстро тучи пробегаютНеосвещенною грядой,И хлопья черных роз летаютПод этой ветреной луной…[1] —но тут же осекся и быстро огляделся по сторонам. В прошлом году Мандельштама, с которым Борис Викторович был шапочно знаком, арестовали, и он сгинул в лагере. Не спасла даже быстро написанная длинная ода Сталину:
И я хочу благодарить холмы,Что эту кость и эту кисть развили:Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.Хочу назвать его – не Сталин, – Джугашвили![2]Конечно, вряд ли за кустами шиповника и дикой груши прятался соглядатай, который по паре строф угадал бы запрещенного поэта, но Борвиталь предпочитал перестраховаться. К тому же по мере приближения к морю воздух становился словно насыщен водяными каплями, и Борвиталю стало вообще не до стихов. Он слегка заволновался – неужели именно сегодня грянет такой редкий в долине Коз дождь? Впрочем, он все равно решил прогуляться к морю, а там уж как выйдет. Зря, что ли, вставал так рано?
Борвиталь установил этюдник, закрепил подрамник с грунтованной холстиной, аккуратно разложил кисти и только после этого обратил взор на море. В предрассветных сумерках море, казалось, застыло, словно единый черный монолит. «Так вот ты почему Черное, – ласково подумал Борис Викторович… – И хлопья черных роз летают, мда…»
Угольком Борвиталь легко наметил едва проглядывавшую линию горизонта. К тому моменту, как взойдет солнце, он хотел сделать подмалевок, но в это утро его планам не суждено было сбыться.
Внизу в долине испуганно и резко залаяла собака, за ней – вторая…
– Вставайте! Волна! – Дверь в спальню студенток распахнулась.
Девочки завизжали, еще не понимая толком, зачем визжат.
– Быстрее, она идет! – страшным голосом кричал Чугунов, старший преподаватель. Тщательно уложенный пробор его растрепался, рубашка была расстегнута до пупа, открывая бледную безволосую грудь с двумя заросшими пулевыми язвами – в начале двадцатых Чугунов воевал на польском фронте.
Он заметался между кроватями, хватал ничего не понимающих девушек за руки и, сдернув с кровати, толкал к дверям.
– Что?! Война?! – в ужасе взвыла Клавка Кочубей, недослышав.
– Волна! Вода с моря идет. Стеной! Да бросайте вы эти тряпки, нужно бежать, бежать…
Напуганные девчонки потянулись к дверям, толкаясь и наперебой лопоча:
– Маш, это мой сандаль!
– Мы ж неодетые, Иван Максимыч…
– Это вы шутите так, да?!
– Какие шутки, дуры вы чертовы?! Скорее, скорее! Бегите направо, вдоль виноградника, на гору!
Чугунов выскочил из домика вместе с художницами. В кутерьме никто не заметил, что Оленька Нерода так и осталась сидеть в кровати. Она сидела не шевелясь, не моргая, крепко сжав в кулаках край летнего одеяла, словно держалась за него.
– Туфля, туфля слетела, – отчаянно крикнула за окном Клавка.
– Брось, брось ее… БЕГИ-И-И, – страшно закричал в ответ Чугунов. В комнате Оленька даже не вздрогнула.
Топот множества ног удалялся в сторону виноградника.
– Мама! – тонким голосом крикнул кто-то.
Собачий лай в долине перешел в долгий тоскливый вой и внезапно оборвался. Борвиталь в ужасе слушал и слушал страшную тишину. Волну он заметил, когда та уже подошла вплотную к береговой полосе. Она двигалась совершенно беззвучно, просто приближалась, гигантская, невообразимая, дикой высоты волна. Борвиталь даже сразу не понял, что происходит. А когда понял, волна уже прошла прибрежную полосу кварцевого песка и накрыла собой долину.
Преподаватель метался на мысе, слыша крики ужаса со стороны поселка и понимая свое бессилие.
Но и после того как волна спала, путь в долину ему был закрыт. Уровень моря словно бы поднялся на несколько метров и застыл.
Борвиталь спустился вниз и только внизу понял, что это не вода, а черная, вязкая, но при этом странно прозрачная субстанция, в глубине которой что-то жутко и зловеще ворочалось. Тем не менее Борвиталь мужественно сунул ногу в парусиновой туфле в эту массу. Туфлю немедленно засосало и едва не утянуло за собой ее владельца.
Борвиталь вернулся к этюднику и сел на землю в полной растерянности. Что это такое, что за кошмар?! Разлив нефти, вырвавшейся из-под морского дна? Или масса водорослей, накопившаяся в глубинах и по некоей причине выплеснувшаяся на берег? Нет, глупости… Что гадать, махнул рукой Борвиталь, к тому же его познания в области биологии, геологии и океанологии были не столь обширны, чтобы он мог судить о происходящем и найти ему сколько-нибудь научное объяснение.
Но что-то подсказывало ему, какое-то глубокое внутреннее чутье, что все, что он знал о мире до этих пор, теперь совершенно несущественно.
Кабинет следователя НКВД Хазановича был совсем не страшный. Покрашенные зеленой краской стены, портреты Сталина и наркома Берии, карта Крымского полуострова. На обычном присутственном столе – малахитовый письменный прибор, листы бумаги и желтоватые папки, заложенный кусочком клетчатой бумаги примерно посередине «Петр Первый» Алексея Толстого… Среди бумаг – соевая конфетка в пестрой обертке (видимо, чай пил и закатилась).
Сам старший лейтенант госбезопасности Яков Михайлович Хазанович тоже был совсем не страшный. Он все время курил папиросы «Зефир» питерской фабрики имени Урицкого, носил тщательно отглаженный мундир с поблескивающим орденом «Знак Почета», а внешностью напоминал Борвиталю доброго кондитера Френкеля, жившего напротив в те времена, когда маленький Борвиталь еще бегал в гимназию. У кондитера всегда была для гимназистов небольшая скидка, а в праздничный день он даже мог бесплатно угостить какао со взбитыми сливками…
Старший лейтенант госбезопасности Хазанович, впрочем, какао со сливками Борвиталя не угощал. Только один раз – чаем с бутербродами, когда преподавателя как раз привезли из Крыма.
Следователь допрашивал Борвиталя уже в третий раз, и все про одно и то же. Наверное, так нужно было по каким-то правилам Наркомата внутренних дел, тем более что он не бил Борвиталя и не обижал. Просто задавал вопросы, те же самые, что в прошлый раз. Но это понемногу надоедало, и Борис Викторович начал тревожиться, а ну как в очередной раз запутается, собьется, расскажет по-другому, а следователь подумает, что он что-то скрывает, врет, передергивает…
– Значит, вы уверяете, Борис Викторович, что поднялись на мыс Меганом еще до рассвета? – скучным голосом спрашивал сидящего на табурете преподавателя следователь.
– Именно так, товарищ Хазанович, – стараясь не раздражаться, уже в который раз объяснял Борвиталь. – И мне пришлось пробыть там почти до самого вечера, пока не ушла, точнее, пока не ушло это… все Это.
Оно уползло обратно в море, оставив за собой абсолютно голые камни и коробки домов. Ничего живого. Ни кипарисов, ни старых яблонь, ни единой веточки винограда. Ни людей, ни животных.
Борвиталь потерянно прибрел в сторону поселка. Сам не зная зачем, тащил на себе этюдник – наверное, чтобы хоть как-то упорядочить действительность, которая просто не укладывалась в его голове.
Поселок встретил его все той же зловещей тишиной. Он дошел до Шариковой дачи и опустил этюдник рядом с банкой, в которой, как ни странно, по-прежнему торчали кисти. Посвистел. Нет, умом он понимал, что Шарика больше нет…
А потом он услышал шорох. В спальне девочек. Медленно, держась за сердце, он подобрался к окну и, глубоко вздохнув, заглянул внутрь…
– …И что вы увидели? – равнодушно спросил следователь и Борвиталь повторил:
– Студентка Нерода стояла на коленях в одной рубашке для сна и что-то беззвучно шептала. Я попытался привести ее в чувство, но она не видела меня, не реагировала на звуки, и я понял, что разум покинул ее. Я завернул ее в одеяло и всю ночь нес на руках до дороги, где нас подобрал на телеге гражданин Айвазов, житель Судака…
До следователя Хазановича Борвиталь рассказывал все это несчетное число раз – сначала перепуганному жителю Судака гражданину Айвазову, затем начальнику милиции в Судаке, потом более молодому следователю в Симферополе. Теперь вот его привезли в Москву…
Но ни единой душе Борвиталь не сказал о том, что весь пол спальни, все кровати, тумбочки – все было завалено листами бумаги. И на всех один и тот же рисунок: сплюснутая рыбья голова с выпученными глазами, которые тем не менее поражали пронзительным, холодным, осмысленным взглядом.
А Оленька Нерода стояла на коленях и рисовала, рисовала эту жуткую голову, покрытую рыбьей чешуей. Рисовала и шептала: «Жабья икра, жабья икра».
Он никому не сказал, что весь подол Оленькиной рубашки был исполосован словно бы ножами и покрыт липкой слизью.
Не рассказал он, как, выкручивая девушке руки, переодевал ее в чистое, как выдирал из руки графит, спеленывал, тащил на улицу.
Не рассказывал, как сгреб в кучу всю бумагу и поджег прямо в спальне, опрокинув туда же керосинку…
– И что мы в результате имеем?! – неожиданно брезгливо произнес следователь Хазанович. – Совершенно безумную студентку Нерода Ольгу Львовну, члена ВЛКСМ, кстати говоря…
…Как дотащил ее до озерца и пытался привести в чувство, но увы.
Как разжимал ей зубы, чтобы влить глоток воды, после чего она наконец перестала шептать и уснула. А он все боялся, что она умрет… Борвиталь никому ничего не сказал, потому что когда черное вязкое Это уползало обратно в море, он стоял так близко, что увидел в глубине субстанции виноград. Гроздья черного и зеленого винограда, стебли которого опутывали неподвижные тела людей и животных. Он видел своих студентов, коллег-преподавателей, видел пса Шарика. Все это медленно проплывало перед ним. Он стоял, не в силах пошевелиться, потому что оттуда на него смотрели выпученные глаза, которые поражали пронзительным, холодным, осмысленным взглядом. Тысячи пар глаз…
– …Совершенно безумную и к тому же беременную, – закончил фразу следователь. – Ну и для чего же вы так с ней, гражданин Таль?
Борвиталь в ужасе уставился на него.
Спустя девять месяцев Бориса Викторовича Таля отпустили из Бутырской тюрьмы – где он, к слову, сидел в той же камере, где некогда поэт Мандельштам, – домой.
Отпустили, сухо извинившись и сообщив лишь, что студентка Нерода родила Избранного. Не стали даже вспоминать о прицепленных к делу об изнасиловании связях с репрессированными ранее художниками Кржеминским, Падалкой и Эппле, дальнем родстве с репрессированным же главсанврачом РСФСР Кангелари и еще каких-то связях с некими людьми, которых Борвиталь не помнил и не знал. Собственно, отпускали многих, потому что понимали, что сами превращаются в дичь.
Борис Викторович шел по Большой Дорогомиловской, держа в руке узелок с камерными пожитками. Он оглядывался по сторонам, пытаясь понять, что же изменилось вокруг.
Москва выглядела почти такой же, какой он оставил ее год назад, уезжая с Киевского вокзала в Крым. Люди ели мороженое в круглых вафлях, в кинотеатрах шли новые фильмы «Тимур и его команда» и «Музыкальная история», по улицам ехали блестящие черные «эмки» и длинные обтекаемые автобусы… Но одновременно все было не так. Наверное, подобное ощущение испытывает мышь, попавшая в мышеловку-клетку. Она уже не может выбежать на свободу, дверца ловушки захлопнулась, вокруг – железные прутья, которые не перегрызть, но мышь не обращает внимания, она рада, что добралась до своего вожделенного сыра. А про то, что наутро хозяйка с визгом вытряхнет ее в помойное ведро и утопит, она даже не думает. Мышь не может думать, а люди – не хотят…
Хотя к этому времени весь мир неузнаваемо изменился. И Борвиталь знал, что так будет. Уже в то предрассветное утро тридцать девятого на мысе Меганом, когда что-то подсказало ему, какое-то глубокое внутреннее чутье: все, что он знал о мире до тех пор, теперь совершенно несущественно.
Поэтому он с опаской вглядывался в лица встречных москвичей, до холода внутри боясь, что среди них мелькнет сплюснутая рыбья голова с выпученными глазами.
* * *В моем архиве много писем из Советской России, очень много. Изо всех ее нынешних частей, в которых теперь и не разберешься так сразу. Карта моей родины – как живой бульон: булькает, шевелится, меняется. То и дело появляются новые страны и образования, как пузыри кипящего варева, чтобы через месяц-два, через год исчезнуть и больше никогда не возникнуть на поверхности.
Мы еще поговорим об этом.
Но сейчас я о другом. О том первом всплеске Пришествия, в далеком уже тридцать девятом. В год, когда мир ждал Большой войны, но вместо нее пришло Великое изменение, новая судьба нашей планеты. Многие не сразу почувствовали явление Мифов. Самые чуткие – лишь ощутили, краешком сознания дотянулись до факта чужого присутствия. Недалеким и твердолобым просто снились кошмары, недоверчивые отворачивались от радиоприемников и недоуменно вопрошающих газетных полос.
И все же, если судить по моей корреспонденции, были места, где Пришествие стало ясным для всех, словно неотвратимый карающий молот. Большинство из них находились на побережье.
Невозможно отвернуться от фактов, бессмысленно игнорировать десятиметровую стену воды, готовую погрести под собой твой город. Можно бежать, можно просто закрыть глаза и ждать конца. Не знаю, что лучше. Спасение бесполезно: даже если волна не догонит беглеца, она придет снова, чтобы накрыть его с головой. И он в любом случае захлебнется, только теперь уже не физически, а внутри себя. В душе.
Спасение – не для всех
Олег Богомолов
На террасе пахло керосином. Немногочисленные посетители таверны жались по углам, стараясь не беспокоить Реда – длинноволосого старика в помятой длиннополой одежде, пропахшей копченой рыбой. На столе перед ним стояла керосиновая лампа, железная кружка с пивом, жаркое из лангуста в большой алюминиевой тарелке и разобранный на части «смит-вессон» русского образца. Каждую очередную порцию старик прожевывал долго и тщательно. В это время он поворачивал голову в сторону океана. Тот, кто проходил снаружи, мог заметить, что взгляд его в это время становился совершенно отсутствующим, глаза делались словно бы стеклянные, закатные лучи отражались в них легкими всполохами – казалось, что алые мотыльки выпархивают из его глазниц и растворяются в тяжелом влажном воздухе.