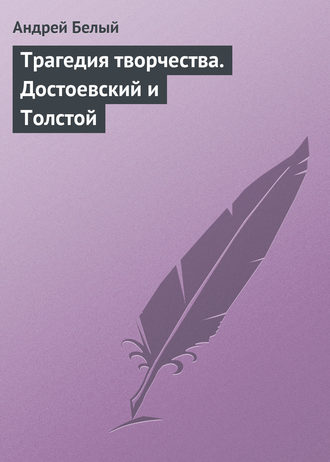
Андрей Белый
Трагедия творчества. Достоевский и Толстой
Взрывая, возмутишь ключи;
Питайся ими – и молчи[25].
Тут – «мысль изреченная» есть только ложь. Углубление внутренней жизни начинается с великого опыта «молчания». Недаром о молчании так внятно говорят различные школы опыта; и у Рэйсбрука, и у Метерлинка, и в восточной школе Церкви, и у индусов в молчании начало того пути личного совершенствования, который потом ведет к проповеди. И диапазон молчания разнообразен; для иных рост внутренней жизни навсегда заключен в молчание; оттого-то подчас поучения гениев жизни, проходящих школу молчания, так скудны, бескрасочны, чуть ли не бессодержательны; и часто мы вовсе проходим мимо тех, кто зорче нас видит смысл от нас ускользающей жизни. Путь гениев обоего рода пересекает сверкающее великолепие красок и образов одинаково; но в то время как художник слова вырабатывает в себе особую способность передачи посредством слога, стиля, ритма, инструментовки слов и средств изобразительности как своего рода мастерства и тем самым дольше останавливается на каждом образе, – художник жизни, не останавливаясь, в молчании, спешит дальше и дальше; слова первого гения опережают его; слова второго – далеко отстают. Но для обоих наступает момент, когда с молчанием встречается слово; это роковой момент в жизни гениев; гений вступает в борьбу с самим собой; слово начинает просить жизни; жизнь – слова; словесное творчество осознает свою подлинную цель: стать творчеством жизни; а для этого нужна наличность подлинной жизни у себя. Тут художник слова не может не осознать всю ремесленную сторону своего творчества как бремя, тормозящее стремительность творчески переживаемой жизни; и наоборот: художник жизни осознает сокровища своего опыта как достояние человечества; он ищет возможности передать свое богатство, отречься от него для себя, ибо он уже себя осознает лишь в связи со всем миром; и он обращается к слову. Это момент, когда великий писатель начинает молчать, а великий молчальник – говорить. Слова одного гаснут, становятся строже, суше или даже иссякают вовсе; молчание другого разрывается словами, потрясающими мир. Художника часто тогда перестают понимать, поступкам его дивятся; вокруг же молчальника собираются толпы; одному грозит разрыв с окружающими, другому – измена себе.
В гении есть одна темная точка, непонятная для окружающих: преодолеть себя как гения во имя высшей, людям далеко не понятной гениальности: вершина горы, у подножия которой селятся люди, вдруг превращается в действующий вулкан: то, что привычно пленяло, начинает ужасать. Эта темная точка есть вершина самой гениальности; это – стремление сочетать слово о жизни с жизнью, для которой уже нет обычных слов; немота начинает говорить; слово превращается в знамение. Не все гении поднимаются к вершине своей гениальности. Недалеко от собственной вершины они гибнут; здесь погиб Ницше, мучился Гоголь, изнемогал в эпилепсии Достоевский.
На этой вершине недавно стоял перед лицом вселенной Лев Толстой; его художественный гений заставил его сказать в первую половину своей жизни то, что немногие говорили до него; и сказал он так, как говорили немногие. Но мудрость его жизни погасила в нем прежний художественный гений; и вторую половину жизни он уже не говорил о том, о чем сказал нам «Войной и миром» и «Анной Карениной»; никогда уже более он так не говорил: он – молчал. И конечно, произведения второй половины его жизни не выражали сущности того, о чем замолчал Толстой. Я не стану оспаривать многих последователей Толстого, доказывающих философскую глубину или этическую высоту его предпоследних слов; все это так: но тут молчит уже художественный гений Льва Толстого, пугает, давит нас своим молчанием; и наоборот, все сказанное им за этот период не превосходит того, что уже в этом же роде было сказано до него; и неспроста он обращается к составлению своего «Круга чтения»[26]. Он становится нем; слово его становится намеренно неуклюжим; и когда нас пленяет красота этого неуклюжего, как бы косноязычного слова, нас пленяет титаническая сила толстовского молчания, как бы бессловесный гром приближающегося вулканического извержения. Лев Толстой стремится к простоте; он хочет ясности; но эта ясная простота и намеренное непонимание всего утонченного в утонченнейшем человеке своего времени есть самая большая непростота опростившегося Толстого, самая отчаянная неясность детски ясных его слов. В этом сочетании ясно высказанного с неприводимой к ясности глубине самой его замолчавшей художественной стихии – все величие трагедии Толстого, – трагедии гения, преодолевающего свою собственную человеческую гениальность во имя большей, невыразимой, нам едва ли понятной гениальности. Лев Толстой во вторую половину своей жизни – молчальник, самые поучения которого едва ли выражают тысячную часть того, для чего у него уже не было слов. Самая его ясность и простота таит в себе множество переносных смыслов; он становится тут живой загадкой человеческого творчества; с ним спорят все, опровергают толстовство, – эту бледную тень живого Толстого, – в сотый раз доказывают несостоятельность самого Толстого, но к нему влекутся; не слова его, а он сам – магнит, притягивающий весь мир. Все многообразие умственных, нравственных и художественных течений, шумно оспоривающих друг друга, – и Лев Толстой, молчаливо засевший где-то в полях за «Кругом чтения». Какая несоизмеримость.







