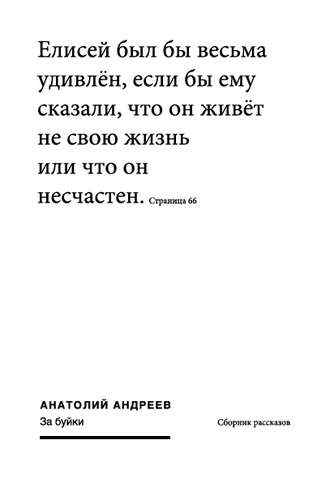
Анатолий Андреев
За буйки (сборник)
I. У каждого своя война
У каждого своя война
– Война была не такая, война была другая, – капризно твердила пышная Людмила Дорофеевна, дама представительная, с манерами, целомудренно оправляя оборки платья в цветочек.
– Позвольте с вами не согласиться, – сухо кашляя в кулачок, сопротивлялся субтильный Орфей Иванович. При покашливании на левой стороне его узкой, но выпуклой груди со сдержанным достоинством позванивали густо посаженные медали, скромно уступившие место в первой – верхней – шеренге выразительному ордену (второй орден горячей звездой одиноко распластался справа).
9 мая 1975 года, в День 30-летия Великой Победы, бравый Орфей Иванович заглянул к Людмиле Дорофеевне с букетом тюльпанов и с не вполне ему самому ясным, однако же достаточно определенным намерением. Праздник придавал уверенности бывшему капитану-артиллеристу, а ныне вдовцу и преподавателю музыкального училища по классу кларнета и флейты.
Дело происходило давно, в Таджикистане, в Ленинабаде, городе Ленина на Сыр-Дарье, – древнем городе, который, по преданию, завоевал сам Александр Македонский. Героев рассказа нет уже в живых, но я, любимый ученик Орфея Ивановича, исполнявший самые ответственные партии в оркестре под его руководством, отчетливо помню облик моих невыдуманных персонажей, их искренние интонации, залитый солнцем среднеазиатский сухой май и свое первое тяжелое недоумение, так усложнившее мою до того беспечную молодую жизнь.
… Цветы Людмила Дорофеевна поставила в вазу, воодрузив ее в центр овального стола; при этом она, походя, ткнув холеным пальцем большую кнопку, выключила черно-белый телевизор «Горизонт», по которому звучали колючие марши и показывали документальные кадры военного времени. Советские войска непрерывно побеждали врага на всех фронтах, и собирались делать это весь день – и вдруг наступила, казалось бы, мирная тишина. В этот момент она и произнесла свою простую фразу про «другую войну», так задевшую Орфея Ивановича. Очевидно, поэтому она повторила ее, издевательски не поменяв ни слова.
– Вы ведь водку пьете? Извините, я не держу в доме водки, – добавила хозяйка.
– Спасибо, я не пью водки, гм-гм, с некоторых пор. Я захватил хорошее вино, если вы не возражаете.
На этикетке крепленого марочного вина «Ганчи» медалей было больше, чем на груди скромного, однако довольно решительно настроенного гостя.
Откупорив бутылку с вином, Орфей Иванович разлил его в бокалы – почти до краев. Людмила Дорофеевна воспитанно не подала виду, но как-то удивительно тонко, едва ли не кружевами и манжетами, дала понять, что она не одобряет такие широкие, практически варварские жесты.
– За Победу, за Великую Победу! – неуклюже вставая, сказал Орфей Иванович, игнорируя нюансы ее поведения, от которых в любое другое время он получал ни с чем не сравнимое удовольствие, и вытянул вино до конца большими громкими глотками. Людмила Дорофеевна не притронулась к бокалу, даже не пригубила.
– Так какая же была война? – вежливо поинтересовался раненый в ногу и контуженный капитан, дошедший до Берлина, но оказавшийся потом в Средней Азии – за то, что он когда-то высказал свое мнение о войне и о знаменитом генерале (капитан назвал его «людоедом» и «фашистом») в кругу подвыпивших, но весьма бдительных однополчан. Кроме того, ему припомнили, что он обучался игре на кларнете у специалиста, закончившего Венскую консерваторию. Специалиста отправили на Колыму, а его любимого ученика Орфея, коренного минчанина, – туда, где потеплее, в Среднюю Азию.
– Я всю войну провела в городе Белая Церковь, что на Украине, – начала Людмила Дорофеевна явно с намерением выговориться и убедить, неизвестно в чем, неизвестно чему сопротивлявшегося гостя.
– Вы были под оккупацией?
– Не сказала бы.
– Но ведь немцы захватили город?
– Они вошли туда и без наглости расположились в домах мирных жителей, никого особо не стесняя.
– Так-так, – сказал капитан и прошелся по комнате, слегка приволакивая ногу. При этом медали на его груди зазвенели вызывающе, и даже саркастически. – И что же делали немцы в городе Белая Церковь?
– Они не делали ничего плохого.
– Они никого не убивали?
– Что вы?! – изумилась Людмила Дорофеевна. – Они нам помогали.
Капитан воинственно прошелся в другой конец комнаты. Бряцающие медали уже не скрывали гнева и раздражения.
– Да не мельтешите вы перед глазами, ей-Богу, сядьте, я вам сейчас все расскажу.
Орфей Иванович присел на краешек стула воспитанным истуканом. Хозяйка налила ему вина в бокал – ровно до половины, как и полагается в приличных домах и компаниях. Он не шелохнулся.
Людмила Дорофеевна отпила маленький глоток вина и продолжала:
– В доме моего отца, репрессированного большевиками за то, что он был священником и сыном священника, – доме большом, с прекрасным земельным участком, – встал на постой немецкий офицер с денщиком.
Орфей Иванович мрачно смотрел на свой бокал.
– Они не тронули иконы в красном углу. И мне любезно предложили лучшую комнату, заметьте.
– Сначала вероломно напали на нашу страну, потом вломились в ваш дом, а потом вам предложили комнату в вашем же доме? Сразу видно: культурные люди.
– Не будьте таким наивным и занудным. Мужчины всегда воюют, а военным надо было где-то жить. Так было всегда, во все времена. Но офицер с денщиком вели себя вежливо, не позволяли себе никакого хамства, всегда «битте» и «данке шен». У обер лейтенанта были до блеска начищенные сапоги, великолепный одеколон, гладко выбритое, ухоженное лицо, голубые глаза. Как у вас. Он вообще чем-то напоминал вас. Вы знаете, он обращал на себя внимание. Однажды, когда я слушала по радио сводку Совинформбюро, – да, да, я легкомысленно нарушила строгий запрет – в комнату ко мне постучался офицер, герр обер-лейтенант, звали которого, дай Бог памяти…
– Ганс. Или Фриц. Что, впрочем, одно и то же.
– Не ёрничайте, Орфей Иванович. Вам это не идет. Его звали Рихард.
– А зачем он постучался в вашу комнату?
– Что за вопрос?! Надеюсь, это не пошлый намек? Не помню уже. Так вот. Со страху я выключила радиоприемник, но оставила его на прежней, московской, волне. Он вошел, пристально посмотрел на шкалу, – и сделал вид, будто не заметил, что чёрная стрелочка предательски застыла на запретной точке. Он, конечно, обо всем догадался. Вообще, он вел себя очень прилично, хотя, кажется, был ко мне неравнодушен.
– За победу над фашистской Германией, нашим злейшим врагом, – сказал Орфей Иванович и залпом выпил вино. Людмила Дорофеевна вновь проигнорировала его тост.
– А его денщик, представляете, постоянно насвистывал арии из опер. Он знал весь мировой репертуар и обожал Чайковского. Кроме того, он бесподобно ухаживал за цветами. Такого цветника я не видела в своем доме никогда. Боже мой, какие он вырастил розы! Уму непостижимо!
Орфей Иванович налил себе бокал до краев.
– А когда немцы вынуждены были отступать, то денщик аккуратно собрал вещи и целый день, насвистывая без единой нотки фальши и жмурясь от солнца, сажал морковку в огороде – под линеечку, строго по линии. Забивал колышки, натягивал веревочку – и только потом сеял семена. «Зачем вы это делаете?» – спросила я, разумеется, по-немецки (в школе мы все учили немецкий). «Ведь вы же отступа…, простите, уходите. Вы не увидите результатов своего труда». Он перестал свистеть, посмотрел на меня и ответил: «Но ведь вы же не уходите, фрау Людмила. Здесь будут жить хорошие люди. Я хочу, чтобы после нас остались лучшие воспоминания». Представляете? Потом пришли солдаты Красной Армии в грязных сапогах и растоптали весь посев морковки. Нет, не весь, кое-что выросло, и морковка оказалась чудесной, просто чудесной. А по телевизору и в кино немцев представляют варварами, дураками и садистами. Это вранье, и больше ничего. Меня это возмущает. Я просто не могу смотреть военных фильмов.
– А я убивал немцев, – задумчиво сказал Орфей Иванович. – У одного были начищенные сапоги, а я взял и убил его.
– За что?! – воскликнула Людмила Дорофеевна, в ужасе закрывая свежее лицо руками.
– За то, что он хотел убить меня. Прострелил мне ногу своим крупнокалиберным, и в мой грязный сапог набежало с литр крови. Едва Богу душу не отдал…
– А за что он хотел убить вас?
– Вы не поверите, Людмила Дорофеевна, но этот фашист положил почти половину нашего батальона. Нельзя было нам атаковать с той гибельной позиции, нельзя. Поляна простреливалась вражеским пулеметом насквозь. Я ведь сказал об этом комбату Леонидову, царство ему небесное.
– А он, что, не послушал вас?
– Приказы на войне не обсуждаются, Людмила Дорофеевна. Они выполняются. Глупые приказы – тем более. Любой ценой. Мои лучшие друзья лежат под Белой Церковью. Я забыл спросить того гада, зачем он убивал наших солдат. Мне было не до того. Я убил его, всадил в него три пули, все, что оставалось в обойме, а потом еще и штык-нож вонзил, со скрежетом. Наверное, задел за ребра, хотя мне показалось, что у него вместо сердца – камень, и я сталью – по камню. А потом я сел и заплакал. Мне ребят было жалко. Лешку… Матвея… Витька… Потом меня подобрала санитарка, славная девушка. Александра. Через два дня ее убили… Ее Лешка любил… Я не долечился в госпитале, сбежал на фронт. Мне хотелось убивать этих нелюдей, с камнями вместо сердца, еще и еще. У меня была другая война, Людмила Дорофеевна. Там не сажали морковку и не насвистывали арий. Извините.
– Вы меня не обманываете? Вы на самом деле убили человека?
– Не человека, а фашиста.
– Фашисты тоже люди. Они были культурными людьми, они не могли убивать просто так. Должна же быть причина. Почему никто не говорит о причине?
– Они убивали за идею, просто потому, что считали себя сильнее. И умнее. И талантливее. Иконы не трогали, а людей уничтожали. Они считали меня второсортным «материалом». Поэтому я их и ненавижу.
– Ненависть разрушает человека.
– Ненависть к фашистам укрепляет мой дух. А еще я ненавижу фашистов за то, что они заставили меня убивать и ненавидеть. Они и меня сделали немного фашистом…
– Большевики тоже хороши, скажу я вам. Они тоже перекраивали мир «за идею», и для них мой отец тоже был второсортным «материалом». Да и вас они не пожалели…
– Не путайте божий дар с яичницей. Одно дело – убивать из любви к людям, и совсем другое – из любви к себе, из презрения к другим. Большевики были вооружены благими намерениями. Их жестокость – это жестокость романтиков, а жестокость фрицев – это жестокость глупых циников.
– Вот именно – вооружены. Все воюем и воюем. Не люди, а бойцовская порода какая-то. Вот и вы туда же. Какой вы упрямый и …принципиальный. А казались таким мягким человеком. Покажите мне рану на ноге.
– Вы думаете, я притворяюсь хромым?
– Не говорите глупостей. Покажите ногу. Да, да, поднимите штанину. Какой ужас!
Глядя на давний шрам, грубо зарубцевавшийся красновато-сизым зигзагом, напоминавшим зловещий разлет немецкого Z, легко можно было представить, в какие клочья была разодрана нога молодого тогда еще человека.
– А за что вам дали орден, вот этот? – она аккуратно притронулась пальцем с отполированным ногтем к лакированной эмали ордена Боевого Красного Знамени.
– Именно за то, что я убил фашиста, который не сумел убить меня.
– А этот? – пальчик коснулся застенчиво рдевшего ордена Красной Звезды.
– За то, что спас мирных жителей. Немцев…
Они замолчали. Было слышно, как натруженно тикают настенные часы, уставшие подгонять время, которое пока что оказалось не в силах изменить людей.
– Какую же оперу мы будем ставить в следующий раз? – спросила Людмила Дорофеевна, поймав паузу в осипшем бое домашних курантов.
В музыкальном училище была традиция: силами учащихся и преподавателей раз в сезон ставили новую оперу. Здесь было много талантливейших сосланных музыкантов, которые щедро делились секретами мастерства с учениками. Муж Людмилы Дорофеевны, органист из Риги, умерший лет пять тому назад, тоже оказался в Ленинабаде не по своей воле. Именно он делал искусные аранжировки для оркестра, дирижировал которым Орфей Иванович. Последние годы дирижер взял на себя еще и миссию аранжировщика. Оперные постановки давались все труднее и труднее: кто-то умирал, кто-то уезжал в Москву и Ленинград.
– Что-нибудь из Вагнера, я думаю. Может быть, «Тристана и Изольду». Немецкая опера гораздо глубже и сильнее итальянской, согласитесь. Даже русская ей уступает.
– Несомненно.
– Конечно, мне трудно тягаться в аранжировке с покойным Янисом Теодоровичем…
– Нет, нет, ваши аранжировки тоже хороши. Они очень колоритны и своеобразны. Сохраняют и передают дух оригинала.
– Вы так считаете?
– Так все считают. Спасибо за цветы.
– Если вы намекаете на то, что пора заканчивать мой затянувшийся визит, то извините, я еще не все сказал. А я не всегда бываю так смел, отважен и словоохотлив, как сегодня.
– Так говорите же.
Орфей Иванович шевельнулся на стуле, и медали смущенно издали мелодическое шуршание.
– Я хотел бы иметь честь… – тут Орфей Иванович сухо кашлянул в кулачок. – Видите ли… Эх, была не была: соблаговолите стать моей супругой, Людмила Дорофеевна.
Часы оторопели и, кажется, забыли отсчитать два-три положенных такта. Нависла пауза.
– Разумеется, я буду вашей женой, – сказала Людмила Дорофеевна, мило теребя оборки платья. Как опытный дирижер, она выжала из паузы максимум, и оркестр, то бишь ее голос с трогательно осевшим тембром, вступил в нужном месте, не раньше и не позже. Партитура диалога ожила. Пауза только подчеркнула значимость ее грянувших слов. – Для меня это большая честь. По-моему, за это стоит выпить.
Орфей Иванович растерянно посмотрел на пустую бутылку, стоящую на столе, и сделал движение, чтобы встать со стула. Желание Людмилы Дорофеевны для него давно уже было законом.
– Нет, нет, сиди, Орфей Иванович, тебе нельзя, надо беречь ногу. У меня есть «Рижский бальзам». Он крепче водки. Годится?
Пустая бутылка была убрана со стола (при этом Людмила Дорофеевна ободряющим и плавным движением ладони прикоснулась к свежим тюльпанам, которые, в выправке дворцового караула, вытянули свои пламенеющие бутоны на сочных тугих стеблях), бокалы сменили старинные рюмки из массивного хрусталя.
– Это еще дореволюционное стекло. Единственное, что осталось от деда, не считая иконы. За что пьем?
– За тебя, моя дорогая.
Медали слабо звякнули, стиснутые внушительной грудью Людмилы Дорофеевны, ордена дозрели до бордового румянца. Орфею Ивановичу был подарен поцелуй, о котором он грезил еще там, на фронте, – еще до того, как убил фашиста. И только теперь он обнимал женщину, ради которой, оказывается, воевал: он только сейчас понял это.
В этот момент где-то в городе, затерянном на просторах жестокой Азии, прогремел залп салюта в честь победы над варварами из Европы.
– И за то, что ты остался жив, мой воин, – сказала Людмила Дорофеевна и выпила, опередив капитана и кларнетиста.
Вечерние сумерки быстро поглощали дневной свет.
По высокому небу, обгоняя друг друга, плавно скользили легкие облака.
11.05.2007
За буйки
– Что, тянет за буйки? – спросил меня загорелый, поджарый мужчина с мускулистой грудью, обросшей темноватой пушистой порослью, в которой, ближе к шее, пробивалась седина, упакованный в черные, плотно прилегающие к лицу солнцезащитные очки. Видимо, бывалый.
– Тянет. По-моему, это естественно. Или в этом есть что-то постыдное, что надо скрывать от всевидящих очей праздной публики?
Я только что вылез из озера после дальнего заплыва. Плыл я долго и с удовольствием, чередуя стили или просто покачиваясь на волнах, перевернувшись на спину. В тот момент, когда буйки остались далеко позади (расстояние до них чувствовал и контролировал мой затылок), я едва не попал под лихой катер. Или маленькую, с хищным силуэтом яхту, не разобрал. Без предупреждения, пренебрегая необходимой осторожностью судно, состоявшее из острых, похожих на акульи плавники, линий, проскочило возле меня, распарывая воду.
Пережив эту атаку, я, ошарашенный и наглотавшийся воды, резко повернул и поплыл назад. Дотянул до линии буйков. И тут меня ни с того ни с сего оставили силы. Сначала трещину дала привычная, генетически присутствующая во мне незаметным, но незыблемым компонентом, уверенность пловца, а потом пропали силы. Из мышц, не крутых, но литых, тренированных, сначала предательски растворилась, а потом эфиром испарилась крепость, я просто перестал надеяться на них, на известную мне силу воли; возможно, я резко и обреченно перестал верить в свою звезду (в которую, оказывается, верил легкомысленно и безгранично). И, как привороженная рыба, не мог заставить себя оторваться от ржавого, раскрашенного в сине-красный цвет поплавка. Чем дольше я кружил возле буйка, делая вид, что не очень спешу назад, тем противнее ощущал валы накатываемой на меня паники, которая делала меня все слабее и слабее.
До берега плыть было прилично. Но еще минут десять-пятнадцать назад мне и в голову не пришло бы делать из этого проблему. Я всегда заплывал за буйки. Более того, это и составляло для меня смысл понятия «купаться». Я совершал заплывы, отдалялся от массы копошащегося люда, наслаждаясь вылазкой в запрещенную зону, где аж до горизонта, если ты был в море, или до противоположного берега, если ты рассекал озеро, манила бликами открытая вода. Только ты и стихия. Два берега – и ты.
И вот что из этого вышло…
Я собрался с духом и не торопясь (чем более хотелось прибавить прыти, тем хладнокровнее я замедлял темп гребков) добрался до берега. Постоял там, где мне было по колено, где народу было больше всего, и вышел.
Мужчина, казавшийся старше меня лет на пятнадцать-двадцать, снял очки. Глаза были сине-голубыми. Когда-то темные, а сейчас почти побежденные сединой волосы, не коротко и аккуратно прибранные под машинку, а длинноватые, свеже тронутые стрижкой (явно не бывший военный, скорее, смахивает на вольного художника), и голубые глаза – не водянисто-голубенькие, а с глубоким васильковым отливом.
Я вспомнил свое маленькое предубеждение: у плохих людей не бывает отчетливо голубых глаз. Проверить?
– Стыдного нет ничего, – сказал он. – И глупого, пожалуй, нет. Для тридцатилетнего человека это, скорее, нормально и естественно, соглашусь с вами. Но за буйки – это особый риск, к этому надо быть готовым.
Судя по всему, он видел все, что произошло со мной. Об остальном догадался.
Что ж, у него острое зрение – дальнозоркость, вполне типичная для возраста в районе пятидесяти. Большой жизненный опыт. Склонность к рефлексии. Известное чувство такта. Возможно, умение разбираться в людях. Отсюда, не исключено, – вкус к поучениям. Во всяком случае, интерес к другим еще не пропал или не совсем еще заслонен эгоизмом пожилых. Чем не собеседник?
Тем более что купаться сегодня у меня пропало всякое желание.
– Имя мое Михаил, – я протянул руку, приветствуя его интерес ко мне.
– Константин, – сказал он и крепко стиснул мою ладонь. Я предвидел, что он даст жесткого «краба».
– Вы расскажите мне историю из жизни?
Вопрос мой был без подвоха, но я сказал то, что сказал – упредил нотационный характер беседы. Для умного – достаточно.
– Честно говоря, хотелось бы.
Он быстро сориентировался и на ходу стал перестраиваться. Неплохой уровень и стиль общения. Такого жиденькой иронией не прошибешь. Судя по всему, обладает чувством собственного достоинства, гибкостью, порождаемой духовным тактом…
– Возможно, вы и правы, – добавил он. – Возможно, мне больше хочется рассказать историю, чем вам ее услышать. Вы правы – если вы это имели в виду.
Я молчал, ибо добился своего: я уже лишил его информационного преимущества, дав понять, что быстро узнаю о нем больше, чем он понапридумывает обо мне. Нечего подглядывать за тонущими. Это неэтично. Хотя и, чего греха таить, любопытно.
– Однако, не исключено, что в гораздо большей степени в ваших интересах услышать ее, нежели в моих – рассказывать ее вам. Вполне возможно, что история, услышанная на берегу, очень пригодится вам. Такое бывает.
– Возможно, – сказал я. – Мне интересно.
Я с неудовольствием почувствовал, что скрываю от себя степень интереса к истории, которую может рассказать этот человек. На самом деле я был заинтригован. Мне показалось, что и он почувствовал то, что почувствовал я. Если так, то он переигрывал меня за явным преимуществом. Достойный собеседник? Я был к этому совершенно не готов. Мои самоуверенность и снисходительность превращались в форму пижонства. Вот откуда досада и некоторое раздражение.
Интересно. Возможно, сегодня был один из тех дней, когда узнаешь о себе много нового – на годы вперед.
– Я писатель, – сказал Константин. – Писатель, сценарист и путешественник. Может быть, я и не писатель по характеру своей одаренности, а просто охотник за историями – за историями душ человеческих, я имею в виду.
Мы, словно перед дальней дорогой, присели на свежую еще июньскую траву. Я молчал, давая понять, что не являюсь охотником до комментариев (если я не на работе, конечно); возможно, подумалось мне, я тоже охотник за историями. Я – психотерапевт, и кучерявая, многословная повесть о том, как я умер, чтобы воскреснуть к собственному удивлению, эгоистически копаясь в собственной душе, лежит в моем творческом портфеле. Повесть о несчастной любви и о том, как я потерпел крах, если говорить без обиняков. Послушать просто историю из жизни – почему бы и нет?
Стоп. Опять приступ агрессивного снисхождения. Конечно, я сопротивлялся – сопротивлялся обаянию великодушия и прямоты. Он еще рта не раскрыл, а мне уже почему-то стало неловко за свою повесть, за то, что я автор «вещи», где искусство писать было направлено на то, чтобы скрыть от себя причины причин.
– Однажды…
Нет, это чересчур даже для меня. Начнем иначе.
Что значит – за буйки?
Это значит преступить условную, но нешуточную черту. Можно сказать, подергать смирного до поры до времени тигра судьбы за влажный ус. И тут фокус в том, что никогда точно не знаешь, удачно ты это сделал или нет. А когда узнаешь – поздно пить боржоми.
Ее звали Пенелопа, не смейтесь, и у нее была младшая сестра…
Вот тут я улыбнулся. Он – тоже:
– Не угадали. Не Ариадна или Коломбина. Ничего необычного: Александра.
Женился я отчего-то на Пенелопе, хотя любил, как потом выяснилось, Александру. Пенелопа была похожа на мать, а Александра – на своего отца, мужика нестандартного, все ждавшего сына и потому награждавшего дочерей своих такими вот именами. В результате Александра была не похожа на Пенелопу. Мне вообще сейчас кажется, что я полюбил ее, что называется, с первого взгляда. Ну, допустим, взгляда не взгляда, но с момента первого душевного, что ли, контакта. Глупость, конечно… Кто мог тогда предположить такой сумасшедший расклад: разница в возрасте между сестрами составляла более десяти лет. Пенелопа вышла за меня, когда ей было двадцать. Саша была девочкой. А я и сейчас не считаю себя поклонником нимфеток. Мне и в голову не могло прийти, что я тайно влюблен в Александру – относился я к ней как к сестре. В полном и точном смысле этого понятия. Мы общались не как мужчина и женщина – а как брат и сестра. Сестер у меня не было, я рос единственным ребенком в семье. У меня даже двоюродных сестер не было. Поэтому отношения с прелестной девушкой, с которой можно быть абсолютно откровенным, но невозможно позволить себе абсолютно ничего из области «мужчина – женщина», были для меня, извините, исполнены очарования. Мы были совершенно свободны и раскованы в общении, потому что оба добровольно признавали табу на преступную любовь брата и сестры (или мужа сестры и золовки, что почти едино суть).
Ох, уж эти табу… С одной стороны, ничего нельзя, а другой – можно все, потому что все равно ведь «ничего нельзя». Понимаете? Именно табу позволило нам сблизиться до черты роковой, словом, пересечь буйки, чертово табу помогло, и ничто другое. Кроме того, я слишком поздно оценил коварный нюанс: я относился к ней как к сестре, но не родной сестре, а двоюродной. Но это все потом. А пока… Мы слишком верили в свою порядочность и были одинаково брезгливы к грязи: мы обладали врожденным чувством достоинства.
А это, казалось нам, уже не табу, а гарантия.
Через девять месяцев после свадьбы у нас с Пенелопой родилась дочь, Оксана, и Саша с момента появления на свет моей малышки души не чаяла в племяннице. Первые десять лет брака мы прожили в квартире, большой и комфортной, с родителями Пенелопы. Жена не хотела уходить на съемную квартиру, как-то все оттягивала этот момент, да так и дотянули до того времени, пока не обзавелись своим жильем.
Наверно, жену можно понять: было очень удобно растить дочь. Всегда кто-нибудь на подхвате: то бабушка, то дедушка, то тетя. Саша нянчилась с ней (называла «мои Ксюшики» или сюсюкалаа: «Ксю-ксю») и проводила времени в нашей комнате не меньше, чем Пенелопа. Никому и в голову не приходило кого-то к кому-то ревновать. Напротив, мы втайне гордились сплоченностью семьи. Естественно, ситуаций, когда я мог оставаться наедине с Сашей, было сколько угодно. Мы разговаривали с ней часами. Она любила, когда я вслух читаю Пушкина или Бунина. Иногда мы дурачились, порой дурачились рискованно (Ксюшики нам в этом здорово помогала, как бы втягивала нас в свои игры), и – секундное дело! – уже тогда чувствовали, что пламенный и сумасшедший диалог глазами и руками лучше не продолжать. А хотелось все чаще создавать «пограничные» ситуации, когда голова кругом, когда легко прощались забытая на талии рука, поцелуй во вспотевший лобик или акцентированное касание расцветающих ее прелестей. Когда она в свободном халате наклонялась пошептаться к моей дочери, которая называла свою тетю не иначе как «Сашенька», я любовался ее набухающей грудью, и уже с трудом заставлял себя отвести взгляд. Дыхание мое становилось тяжелым. Я уже не целовал Пенелопу на глазах у Александры, а когда жене приходила охота одарить меня лаской (всегда слишком интимной, на мой вкус), Саша, как большая, тут же отводила глаза. Спать она уходила рано, не по возрасту (над чем вся семья добродушно подтрунивала), никогда не задерживалась, чтобы посмотреть с нами телевизор или просто поболтать. Словом, с некоторых пор вечерами она выпадала из семейного круга.
И все же мне было легко с Сашей. Ее удивительное чувство такта диктовало ей чувство дистанции. Мы по умолчанию согласились: никаких разговоров или объяснений между нами быть не должно. Вот она, черта, преступив которую мы начнем совсем другую историю. Черта. Табу. Буйки.
Но и это умолчание уже сближало нас…
Оксана росла, однажды летом ей исполнилось уже восемь лет, а Александре внезапно стукнуло почти девятнадцать. Она была уже студенткой.
Первый гром прогремел тогда, когда Пенелопа, светясь от удовольствия (комната в ту ночь немела от ровного сияния полной луны), рассказала мне, что у Сашеньки появился молодой человек.
– Как молодой человек? – просил я, пытаясь справиться со сбившимся дыханием.
– И не просто появился, – ответила жена. – Он сделал ей предложение.
– Как сделал предложение?
Я чувствовал себя обиженным и уязвленным в лучших чувствах.
– И не просто сделал предложение, – засмеялась жена особенным смехом – приглушенным клекотом, который я очень хорошо знал.
– Как не просто сделал предложение?
Боюсь, что глупее в своей жизни я не выглядел никогда.
– Сашенька… В общем, Александра уже не девочка. Что же тут непонятного? Рассталась с девственностью. Иногда это с девушками случается, верно?
Смех. Клекот.
– Помнишь, как ты взял меня в первый раз? Уверенно и нежно. Возьми меня точно так же. Чтобы мне было немножко больно и очень сладко.
И опять то самое блекотание, предназначенное для особенных ситуаций, которое я до сих пор принимал за милый щебет.
На меня впервые в жизни – с этой минуты у меня многое в жизни будет впервые – накатил приступ ненависти к ни в чем не повинной жене, приступ ненависти, связанный с сексуальным раздражением против нее. Это было плохо и, главное, с далеко идущими последствиями – я тотчас оценил опасность.
– Не хочу, – сказал я.
– Ты хочешь, чтобы я сделала тебе ням-ням? Нет? Могу позволить то, что позволила только один раз. Хочешь? Давай, разорви свою девочку…
Она стала шарить руками по моему телу, абсолютно уверенная в своем праве обладать мною в любое время дня и ночи. Я был ее мужем. Ее собственностью. Так было все девять лет нашего счастливого супружества. Это было нормально.
И тут я впервые посмотрел на свою жену чужими глазами: отвисшая грудь, скомканный живот, во всем какая-то гениальная адаптированность к мелочам семейной жизни. Она принимает как должное все то, что уже было и что еще только будет в непростой, но неизбежной семейной жизни. Передо мной, особо не смущаясь и не интересуясь моими желаниями, развалился мой пожизненный крест, полноватый в бедрах, но, если не слишком придираться, еще очень даже ничего на много-много лет. Я вдруг ощутил, что активно не хочу свою жену.
– Давай, иди, чего ты ждешь? Посмотри, что у меня здесь творится… потрогай…
Крест оживал и шевелился.
На следующий день я едва дождался возвращения Александры из университета. Больше всего боялся, что она полетит на свидание с женихом, которого я заочно, но от чистого сердца, возненавидел до конца жизни, и вернется за полночь. Нет, она пришла к обеду.
– Поздравляю, – сказал я, скрестив руки на груди.
Она сказала: «Спасибо». Больше никаких комментариев. Спасибо – и все.
– Когда свадьба?
– Предложение – это одно, свадьба – это другое. А семейная жизнь – это третье.
– Когда же ты научилась отделять одно от другого?
– Было время на раздумья.
– Я слышал, ты уже не девственница?
– Костя, твои разговоры с твоей женой меня не касаются.
– А тебя касается, что я люблю тебя? Я люблю тебя, черт возьми, – шипел я, сжимая кулаки и пугая самого себя. Кажется, дома была глазастая теща. – Люблю, понимаешь? Люблю… А ты…
Она не сказала ни слова. Даже глаз не отвела. Только по щекам покатились крупные слезинки.
– Я тебя тоже люблю. Но ты каждый вечер уходишь в спальню к своей жене. И всегда будешь уходить. А я уже несколько лет не могу смотреть на это. И что?
– Подожди. Ты сказала, что любишь меня?
– Люблю. Но любовь – это любовь, а жизнь – это жизнь. Ничего не изменишь.
Когда она успела вырасти? Еще вчера у нее совсем груди не было. Когда стали колыхаться под платьем ее бедра? Джинсы в обтяжку – еще куда ни шло, но платье, скрывающее…
Когда я заплыл за буйки? Даже не заметил. Но заплыл несомненно. Причем, неизвестно, насколько далеко. Влюбился в сестру жены. Далековато.
Дело в том, что когда в жизни мужчины появляется подлинное чувство – а если оно появляется, он об этом рано или поздно догадается – кажется, что жизнь начинает вращаться вокруг этой оси. Кажется, что нет ничего невозможного – потому что самое невозможное, любовь, уже случилось. Кажется, что все мыслимые сложности – это дело техники.








