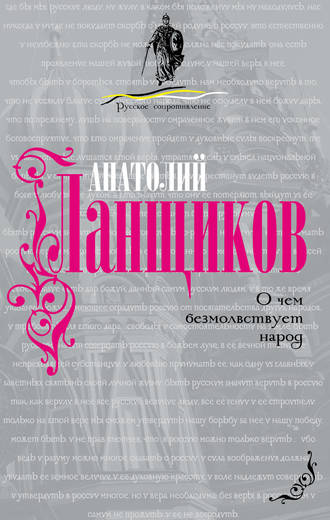
Анатолий Ланщиков
О чем безмолвствует народ
Автобиография поколения
Осторожно – концепция!
Полемические заметки
1
«Концептуальное» поветрие стало каким-то стихийным бедствием. Стихийным потому, что трудно сказать, с чего оно началось; предугадать, когда оно окончится; назвать общие причины, вызвавшие его к жизни; а главное – что ему противопоставить. Поветрие это кочует из одной области знаний в другую и теперь, кажется, всерьез захватило нашу литературную критику. Пока мы можем назвать только частные причины и выявить отдельные признаки этого поветрия.
Если, скажем, вам недосуг разбираться во всех сложностях современного литературного процесса, если у вас недостает аргументов в пользу ваших пока еще туманных предположений – пишите статью и публикуйте ее в «дискуссионном порядке». В таком случае вы можете игнорировать элементарную логику, вы можете нисколько не заботиться о вескости высказываемых суждений и обоснованности выводов, главное – придайте всему разговору концептуальный характер и оснастите его самыми дерзкими терминологическими новшествами.
Вслед за вашей статьей развернется дискуссия. И не беда, если в ходе ее ваши оппоненты вдруг докажут, что вы говорили вздор. Примите такой поворот дел мужественно и хладнокровно: пройдет совсем немного времени, и навечно забудутся самые аргументированные возражения ваших оппонентов и ваша собственная бездоказательность – зато останутся в памяти контуры вашей концепции да ваши былые терминологические новшества. В дальнейшем на них можете и опираться – вторично опровергать вас ни у кого недостанет ни сил, ни духу.
Что все будет именно так, можете не сомневаться, и пусть вас не смущают слова Александра Блока, высказанные им на заре нашего века, когда скорее всего и зарождалась отечественная страсть к концептуальным упражнениям. «Право, – писал гениальный поэт, – если обращать столь лестное внимание на новейшие теории, то их расплодятся десятки. Если же все мы признаем в один прекрасный день, что эти термины – пустые слова, то они и умрут мгновенно, как все неудачные слова».
Но можете не опасаться. В том-то все и дело, что такой «прекрасный день» никогда не наступит, ибо здесь непременным условием должно быть «все мы». А поди добейся этого «все мы»…
Но пока оставим в стороне наше прошлое и обратимся к животрепещущей действительности. Время еще не стерло в памяти опубликованную на страницах «Литературной газеты» статью, в которой критик Ал. Михайлов познакомил нас с концепцией «интеллектуальной» поэзии. Разумеется, статья была опубликована в дискуссионном порядке.
И в выступлениях оппонентов и в выступлении, заключающем дискуссию, концепция «интеллектуальной» поэзии была отвергнута как несостоятельная. К чести Ал. Михайлова нужно заметить, что он верно оценил объективные итоги дискуссии, развернувшейся по поводу его концепции, и, кажется, больше не настаивал на ее применении в анализе литературного процесса. Однако, как говорится, слово не воробей… В августе минувшего года «Литературная газета» публикует в дискуссионном порядке статью А. Бочарова «Многообразие – какое оно?», в которой автор не только снимает кавычки с термина «интеллектуальная» поэзия, но и считает в какой-то мере возможным строить свою новую концепцию на опровергнутой концепции критика Ал. Михайлова – благо аргументы оппонентов забыты, а контуры концепции еще помнятся.
Отстаивая теорию многообразия направлений в современной литературе, А. Бочаров, будто забыв объективные итоги дискуссии по поводу «интеллектуальной» поэзии, как ни в чем не бывало пишет: «Я убежден, что будущие историки литературы выделят в литературе 60-х годов направление интеллектуальной лирики – реально выявившее себя в преемственных и локтевых связях, в исторической закономерности и эстетической цельности».
Не надеясь только на будущих историков литературы, А. Бочаров призывает и современников вдохновиться на такую работу, правда, как-то не очень веруя в ее успех. «Но работа подобного рода, – беспокоится он, – должна прежде всего опираться на общественное признание правомочности самого направления».
Итак, нас начинают увещевать: вы сначала поверьте просто на слово, что «интеллектуальная» поэзия как направление существует и даже лидирует, и тогда мы в доказательство напишем «работы подобного рода». Оказывается, «ключ к воздействию» вовсе не познание, как поначалу утверждал в своей статье А. Бочаров, а различного рода увещевания…
«Не нужно придавать им (направлениям. – А. Л.) некую глобальную значимость, но учитывать их тем – на сей раз ужо предупреждает критик, – кто профессионально занимается литературой, необходимо». Как видим, А. Бочаров нашел довольно своеобразный «ключ к воздействию»: не примешь «теорию направлений», будешь отлучен от профессионального занятия литературой.
Пожалуй, если всерьез принять условие А. Бочарова, то в первую очередь должны быть отлучены от профессионального занятия литературой все его оппоненты (Г. Бровман, В. Оскоцкий, М. Пархоменко). В их выступлениях довольно аргументированно говорилось о принципах стилевого многообразия современной советской литературы, а М. Пархоменко взялся даже дать небольшой библиографический обзор на эту тему, но вопрос о многообразии направлений их никак не соблазнил.
Беда, конечно, не в том, что А. Бочаров завел непривычный разговор о многообразии направлений – здесь, на мой взгляд, нет ничего недопустимого. Беда в том, что он окончательно запутал вопрос, в котором и так не было желаемой ясности, и не привел в защиту своей теории «многообразия направлений и школ» каких-либо убедительных аргументов.
Теперь вот давайте и посмотрим, как же формирует А. Бочаров свои направления. «А разве, – спрашивает он, – не утвердили Г. Бакланов, Ю. Бондарев и начавший несколько позже В. Быков важное направление в военной прозе – то, которое можно определить как направление драматического психологизма?» А вот его главные признаки: «…максимальная концентрация действия – один бой, одно подразделение, одна нравственная ситуация – для того чтобы крупнее показать переживания человека, выявить психологическую правду его поведения в условиях достоверно показанного фронтового быта».
Допустим, перечисленные признаки верно характеризуют первые повести Бондарева и Бакланова, но вот дают ли они основания говорить о наличии здесь направления? Достаточно взять бондаревскую «Тишину» или баклановский «Июль 41-го года», как станет ясным, что теперь для характеристики «баклановско-бондаревского» направления нам уже потребуется называть совершенно другие признаки.
К. Симонов, по А. Бочарову, составляет самостоятельное направление в военной литературе, ибо он «вобрал их (Бондарева и Бакланова. – А. Л.) умение видеть «пядь земли» уже для создания широкой панорамы войны». По-моему, будь это и так, то опять нет еще никаких оснований говорить о направлении, во всяком случае, степень охвата тех или иных событий еще не повод разводить писателей по разным направлениям.
А. Бочаров утверждает, что газетная статья ограничивает возможности автора. Утверждение справедливое. Только к чему было спешить, зачем было заводить на страницах газеты разговор, который нельзя «серьезно аргументировать»? Посмотрите, какие странные признаки легли в основу формирования направления, которое связывается с именем В. Закруткина. «Отчетливо и с полемической убежденностью выявляет себя группа прозаиков, работающих над большими эпическими полотнами, – сообщает критик, но тут же оговаривается: – Эти произведения не являются собственно эпопеями – для этого им не хватает подлинно эпических характеров, – но они стремятся захватить широкое течение жизни, подробно описывают реальные исторические события той или иной эпохи, активно используют сочетание романистики и публицистики».
Что же это, спрашивается, за направление, представители которого только стремятся захватить «широкое течение жизни», но не захватывают его; «описывают реальные исторические события», но не осмысливают их; заодно не создают «эпических характеров»; пишут эпопеи, не являющиеся эпопеями?
Это очень легкое дело – изобрести «направление» (по самым порой случайным признакам), дать ему название и по собственному усмотрению подводить под него писателей. «Под эти названия стараются часто затащить писателей, как в участок, – «для порядку», или чтобы «не ходили несчитанные», как в свое время писал Александр Блок.
А «участок», надо сказать, «участку» – рознь. И главное – уж больно разные репутации они создают. Хорошо, например, оказаться в «участке» с репутацией «овечкинского» направления. Во-первых, оно, это «овечкинское» направление, «своеобразное и сильное», во-вторых, это направление дает повод говорить о «гуманистических концепциях современной литературы», в-третьих, для этого направления «повседневные заботы сельских жителей, их размышления над смыслом жизни, их глубинное отношение к окружающему миру являются воплощением социально-нравственного опыта всей трудовой массы».
Совсем другое дело – направление «деревенщиков» (В. Солоухин, М. Алексеев, И. Мележ). Признаки этого направления не указаны, говорится только, что представители его не близки В. Тендрякову и Ф. Абрамову, но близки В. Чивилихину и А. Андрееву. Однако передвижение «деревенщиков» между этими двумя парами ровным счетом ничего не проясняет, так как сами пары никак не охарактеризованы.
И все-таки не нужно быть особо проницательным, чтобы понять, какой «участок» определил А. Бочаров для так называемых «деревенщиков», – тут достаточно припомнить признаки «овечкинского» направления и что «деревенщики» противостоят ему.
Можно не сомневаться, что даже А. Бочаров не сумел бы доказать, что алексеевская «Карюха» противостоит крутилинским «Липягам» или беловскому «Привычному делу», что М. Алексееву чужды «повседневные заботы сельских жителей, их размышления над смыслом жизни» и т. д. Трудно себе представить, каким образом А. Бочаров стал бы доказывать, что «о гуманистических концепциях современной литературы» больше оснований дают говорить произведения Е. Дороша, нежели В. Солоухина. Но тут А. Бочаров благоразумно не прибегает ни к каким доказательствам и, по-моему, правильно делает.
А. Бочаров понимает всю шаткость своих построений и потому торопится предварить законные возражения. «Вот памятный всем пример, – невинно обращается он к читателю. – Едва было выдвинуто понятие «интеллектуальная поэзия» и в связи с этим названо несколько писательских имен, как посыпались обиды: а остальные глупы, что ли?..»
Разумеется, остальные не глупы. Но как ни странно, а приходится доказывать, что нельзя формировать направления по признакам, которые характеризуют метод социалистического реализма в целом (вспомните «овечкинское» направление), нельзя расставлять писателей по разным направлениям только в силу того, что у одних процесс мышления протекает «в сфере логических понятий», а другим свойственно «эмоционально-образное мышление» (вспомните направление «интеллектуальной» поэзии). Писатели, которые пишут эпопеи, не являющиеся эпопеями, тоже не могут составить самостоятельного направления, как не может служить главным признаком направления и то, насколько широко писатель охватит определенные исторические события.
Оспаривая некоторые положения статьи А. Бочарова, я был бы готов поддержать его общее намерение, окажись в его рассуждениях искреннее стремление «сделать следующий шаг – к осмыслению реально существующих творческих направлении и школ», положи он в основу своих искании выявление принципиальных художественных признаков, на основании которых необходимо и возможно одну группу писателей отличать от другой и чтобы эти группы действительно выглядели самостоятельными устойчивыми «промежуточными» образованиями. Но в конце концов меня тревожит не позиция критика А. Бочарова, меня тревожит сейчас другое…
Пройдет время, и забудется, что оппоненты автора статьи «Многообразие – какое оно?», по сути дела, уклонились от дискуссии, забудется бездоказательность автора статьи, но зато останутся в памяти контуры его концепции да некоторые терминологические новшества. Нет-нет да и промелькнет в одной, затем в другой статье «овечкинское» направление, «симоновское» направление, «закруткинское» направление, «деревенщики»… И убоятся тогда молодые авторы собственной индивидуальности, собственной самобытности и даже собственного жизненного опыта; им во что бы то ни стало нужно будет походить на представителей «сильных» направлений, чтобы ненароком не влететь в направление «несильное», и станут рекрутироваться в легион подражателей не только слабые дарования, но и те, кто мог бы стать в более ясной литературной обстановке надеждой отечественной литературы.
И вот тут мне хочется предупредить: «Осторожно – концепция!»
2
Минувший год был у нас отмечен не только «строительством» собственных концепций, но и явлениями более сложного порядка. Поговорил, скажем, критик А. о том, что по каким-то причинам не устраивает критика Б., смотришь, последний «воздвигает» какую-нибудь фантастическую концепцию и, пользуясь первым же случаем, приписывает ее своему литературному противнику. Затем критик Б. принимает патриотическую осанку и начинает громить критика А. и притом не столько как критика, сколько как человека. И тут уже сложилась своя модель. Сначала щедро выдаются «комплименты», порой граничащие с прямыми оскорблениями. Второе условие – наличие в обвинениях «политических полунамеков». В-третьих, критику А. подыскивается «реакционный предшественник», а потом, естественно, следуют соответствующие «выводы».
Подобная статья должна вызвать у читателя невольное предчувствие административного вмешательства в дела литературные. Конечно, потом этого вмешательства может и не быть, скорее всего и не будет, но ощущение, что оно «может быть», должно возникать.
Лучший пример тому – статья Ю. Суровцева «Придуманная «неизбежность» («Лит. Россия», № 45), в ней есть все перечисленные мною признаки: и «комплименты», и «полунамеки», и «реакционный предшественник», и, разумеется, «выводы».
Итак, начнем с «комплиментов». «Эклектика», «дилетантизм», «историко-литературная память сплошь и рядом подводит В. Чалмаева», «витийствующая односторонность», «путая все и вся», «наш критик-путаник», «знакомство с Леонтьевым не прошло даром для Чалмаева», «чалмаевское патетическое суесловие», «В. Чалмаев упорно гнет свою линию», «чепуха, казалось бы, самоочевидная», «подобное «красивое» суесловие», «с пониманием русской истории дело у В. Чалмаева обстоит, как я пытался это показать, неважно» и т. д.
Не многовато ли – в небольшой газетной статье такое обилие «комплиментов», направленных в адрес одного человека? Вообще-то когда подобные «комплименты» не сопутствуют аргументам, а заменяют их, то, наверное, в самый раз. Пожалуй, этим соображением и руководствовался критик «Литературной России», вступая в «спор» с В. Чалмаевым.
Правда, Ю. Суровцев в критике не новичок: чтобы как-то возбудить у читателя доверие к собственным намерениям, он порой декларирует очень верные, хотя и очень общие, суждения. «Когда тот или иной писатель, критик, публицист касается вопросов, действительно важных для нас, требующих подхода умного, – намекает нам Суровцев, – обоснованного, дальновидного, такого, чтобы потом было как можно меньше нужды переделывать сделанное и перерешать решенное, – он обязан тогда быть особенно ответственным за свое слово, особенно (может быть, больше семи раз) подумать, прежде чем «отрезать».
Сколь велико у Суровцева желание быть проповедником, столь же велико у него желание не быть праведником: когда он бросается спасать от Чалмаева «газетчину», то как-то слишком уж поспешно забывает о своей «проповеди» и «отрезает» с такой поспешностью, которая никак не способствует неторопливости мышления.
«Оказывается, например, что в начале XX века русскую литературу захлестнул «газетно-журнальный бум с его коммерческим или утилитарно-практическим, стяжательским отношением к печатному слову…» – иронизирует Ю. Суровцев, – «словно вышла из берегов какая-то мутная река», продолжает обличение В. Чалмаев; «в торжестве газетчины» (новый термин!) «люди отучились слышать голос народной жизни», а «последние рассказы Чехова, статьи и рассказы Толстого, стихи Блока стали сущими островками незагрязненного, одухотворенного Слова». Какая витийствующая односторонность! Ведь это говорится о периоде подготовки и проведения русской революции 1905 года» (выделено Ю. Суровцевым. – А. А).
Я должен сказать, что здесь автор «Неизбежности» не открыл никаких Америк, так как по этому же поводу «витийствовали» в тот период очень многие и очень настойчиво, а поскольку Ю. Суровцев признает все же бунинский «вклад в художественный опыт русского слова», так давайте послушаем самого Бунина:
«Подумайте же, что значит для нас газета в то время, когда мы с такой быстротой европеизируемся, демократизируемся, порождаем буржуазию, пролетариат, выходим на улицу, начинаем жить сложной, пестрой жизнью и все более входим во вкус газеты, попадаем под ее влияние! А ведь писатель испытывает влияние двойное – власть и газеты и толпы…»
«Исчезли драгоценные черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота – морем разлилась вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый. Испорчен русский язык (в тесном содружестве писателя и газеты), утеряно чутье к ритму и органическим особенностям русской прозаической речи, опошлен или доведен до пошлейшей легкости, называемой «виртуозностью», стих, опошлено все, вплоть до самого солнца, которое неизменно пишется теперь с большой буквы, к которому можно чувствовать теперь уже ненависть, ибо ведь «все можно опошлить высоким стилем», как сказал Достоевский»… (выделено мною. – А. Л.).
Видите, Бунин не опровергает В. Чалмаева, а предмет, о котором он вел речь, ему был, наверное, известен не менее, чем Ю. Суровцеву. Я понимаю: мы имеем право доверять не всем мыслям Бунина, но что касается родного языка, художественного вкуса, чутья к ритму, то здесь, памятуя о признанном критиком «вкладе» великого писателя «в художественный опыт русского языка», мы должны признать его (разумеется, Бунина) авторитет.
Впрочем, о пагубном влиянии «газетчины» говорили в тот период многие, а А. Толстой сделал на этот счет в своем дневнике очень внушительную запись: «Умственная мужская деятельность за деньги, в особенности газетная, есть совершенная проституция. И не сравнение, а тождество».
Но, возможно, и Толстой и Бунин «принизили» роль официальных газет своего времени? Не думаю. Во всяком случае, ленинская оценка буржуазной «газетчины» может нас только укрепить в правоте Толстого и Бунина.
«Воры, – писал В.И. Ленин, – публичные мужчины, продажные писатели, продажные газеты. Это – наша «большая пресса».
Не знаю, кого подвела «историко-литературная память», но вряд ли Ю. Суровцев сумеет доказать, что оценка «газетно-журнального бума» В. Чалмаевым неверна или расходится с ленинской оценкой «большой прессы» того периода. И дело тут скорее всего вовсе не в памяти. Просто Суровцев во что бы то ни стало хотел обвинить критика В. Чалмаева в игнорировании им революции 1905 года – недаром же он подчеркнул слова о ней. Вот это и есть те «полунамеки», о которых мы вели речь в начале главы.
Но всего этого Суровцеву показалось мало, и он продолжает: «Вдумайтесь только: измельчали «культурные ценности» в нашей стране в те годы, когда складывалась первая революционная ситуация» (выделено Суровцевым. – А. Л.).
В представлении Суровцева революция – это нечто вроде всенародного карнавала, общегосударственного празднества по случаю великих достижений в области материальной и духовной жизни, демонстрация гармонии общества. Но он как-то забывает, что революционные ситуации как раз и создаются в те периоды, когда в обществе неблагополучно, когда государственный организм переживает всесторонний кризис.
Бунин, вспоминая один из разговоров с Чеховым, писал: «Часто говорил он в суровом и грустном раздумье:
– Вот умрет Толстой, все к черту пойдет!
– Литература?
– И литература.
И сам он умер не вовремя. Будь жив он, может быть, все-таки не дошла бы русская литература до такой пошлости, до такого падения, до изломавшихся прозаиков, до косноязычных стихотворцев, кричащих на весь кабак о собственной гениальности…» Это относительно измельчания «культурных ценностей». А что касается революционной ситуации в стране, то тут я сошлюсь на Ленина.
«Основной закон революции, – писал Владимир Ильич, – подтвержденный всеми революциями и в частности всеми тремя русскими революциями в XX веке, состоит вот в чем: для революции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетенные массы сознали невозможность жить по-старому и потребовали изменения; для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому. Лишь тогда, когда «низы» не хотят старого и когда «верхи» не могут по-старому, лишь тогда революция может победить. Иначе эта истина выражается словами: революция невозможна без общенационального (и эксплуатируемых и эксплуататоров затрагивающего) кризиса».
И, по-моему, нет ничего удивительного, что в период революционной ситуации 1905 года, когда налицо были все признаки «общенационального кризиса», измельчали «культурные ценности» и отчетливо наблюдался тот «газетно-журнальный бум с его коммерческим или утилитарно-практическим, стяжательским отношением к печатному слову», о котором говорилось в «Неизбежности».
Итак, Чалмаев, по Суровцеву, игнорирует первую русскую революцию, но Суровцеву этого недостаточно, и он под свои обвинения начинает подводить «теорию». Вынося очередное обвинение автору «Неизбежности», Суровцев с шумным пафосом восклицает: «Ведь сделал же он (В. Чалмаев. – А. Л.) из Бунина певца единой России!..» Но вот, как мы сейчас увидим, из Бунина, а заодно и из Чалмаева «певцов единой России» сотворил не кто иной, как сам Суровцев.
А делается это очень просто. Сначала критик приводит цитату из бунинского рассказа, привлекшего внимание Чалмаева, а затем делает нужный себе вывод. Вот эта цитата: «Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть…»
Вы полагаете, что вот это многоточие – простой знак препинания? Вы ошибаетесь. Это апробированный прием, позволяющий лихо передернуть своего оппонента, и, надо отдать должное Суровцеву, пользуется он им уверенно.
Но вернемся к цитате из Бунина. Разумеется, если бы эти чувства (о единой России) пришли к герою во время пирушки с купцами, демонстрирующими ширь своей души, тогда, пожалуй, ирония в адрес Чалмаева (да и Бунина тоже) была бы уместной. Но оказывается, эти «крамольные» чувства были вызваны совсем иными обстоятельствами. Тут нам придется обратиться к тексту статьи Чалмаева, а у того это звучит так: «Вспоминается невольно чудесный рассказ «Косцы» И. Бунина, в котором герой, глядя на косцов, слушая их песню «И родимая, ах, прощай, сторонушка», думает: «Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть…» Тут вот Суровцев и ставит свое коварное многоточие. А вот что он отсекает: «И еще в том была (уже совсем неосознанная нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была – Россия, и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу».
Как видим, чувство единой России было навеяно не подзагулявшими купцами, а трудовыми людьми, косцами, их народной песней. В том-то все и дело, что народное творчество (в данном случае и песня и ее исполнение) всегда объединяет людей в каком-то хорошем, добром чувстве, но Ю. Суровцев делает вид, что он ничего этого не понимает и якобы только экономии места ради делает столь «произвольные» усечения текста статьи своего оппонента.
Итак, в намерения критика «Литературной России» входило: первое – показать, что В. Чалмаев игнорирует революционное движение; второе – подвести под все это «теоретическую» базу, и он делает из Чалмаева «певца единой России». Но на этом Суровцев успокоиться не может – теперь для него важно установить связь между «идеями» В. Чалмаева и реакционными идеями прошлого, для чего и подыскивается «реакционный предшественник», и в данном случае им становится Константин Леонтьев.
Ю. Суровцев призывает В. Чалмаева к «строго научной классовой, социальной методологии исследования общественных явлений, исторических лиц и событий». Вот тут бы критику и поговорить об изъянах методологии автора «Неизбежности» вместо того, чтобы, выстроив вот такой титул К. Леонтьеву – «последовательный, ярый консерватор, убежденнейший монархист, шовинист-великодержавник, христианско-православный ортодокс и философ», – как-то привязывать к нему Чалмаева. И тут я не убежден, что сам Суровцев желал бы придерживаться той методологии, о которой он напоминает Чалмаеву.
Так во имя чего же писалась Суровцевым статья? Во имя своих «выводов». Если А. Бочаров разводил писателей по «направлениям» («сильным» и «несильным»), в общем-то не выходя за рамки их художественной значимости, то Суровцев куда как более крут: его интересуют не судьбы отдельных авторов или определенных групп писателей, а журналов целиком, причем он преисполнен решимости активно вмешиваться в их судьбы.
«Я не шучу (это мы понимаем. – А. Л.) и не преувеличиваю, – предупреждает нас Суровцев, – современный советский критик в 1968 году в комсомольском журнале с пылом и жаром стремится доказать великое государственное и даже народное значение раскола и никонианства». Если убрать отсюда излишний пафос, идущий от субъективного восприятия Суровцевым статьи Чалмаева, то никакого криминала не остается. Действительно, неужели комсомольский журнал только потому, что он комсомольский, должен отечественную историю преподносить на манер студенческого капустника?
Заканчивает свою статью Ю. Суровцев такими вопросами: «Остается задать еще один (на самом деле два. – А. Л.) вопрос: насколько неизбежным было появление статьи, проповедующей асоциальные взгляды на русскую историю и на некоторые современные заботы нашей жизни, в журнале «Молодая гвардия»? Или впрямь работники журнала убеждены в том, что Никон и раскольники, всенощный колокольный звон и бессловесная лошадушка Саврасушка, изничтожение «газетчины», а вкупе с ней и «бухгалтерии» помогут подлинно патриотическому, коммунистическому воспитанию молодежи?»
Здесь Суровцев не только задает вопросы, но и утверждает, что Чалмаев со страниц «Молодой гвардии» проповедует асоциальные взгляды, с чем согласиться никак невозможно хотя бы потому, что сам Суровцев в начале своей статьи намерения Чалмаева признает похвальными. «Автор справедливо говорит о вредности моды на абстрактно-всеобщий «модерн» (одно это уже может снять обвинение в «проповеди асоциального». – А. Л.), справедливо предупреждает о вредности настроений эгоистического славолюбия, имеющихся и в нашей, литературной, среде. Наконец, есть у В. Чалмаева и верная, особенно важная сегодня, мысль о необходимости быть бескомпромиссными в идеологической борьбе», все это пишет Суровцев.
Если мы признаем статью Чалмаева неубедительной, если мы откажем автору в глубине социального анализа, но признаем похвальными его намерения, то возражения наши в таком случае должен вызывать метод критика, но никак не цель.
Спрашивается, оправданно ли цитирует критик в своей статье К. Леонтьева? По-моему, так, как он это делает, нет. И дело тут не только в фигуре самого К. Леонтьева, а в том, что имя его ничего не говорит молодежному читателю, который, прочитав чалмаевскую «Неизбежность», наверняка составит о нем ошибочное мнение. Тут необходимо было внятно сказать о религиозно-философской позиции К. Леонтьева и никак уж не зачислять его в друзья Льва Толстого, потому как последнее противоречит исторической истине. Правда, некоторые пытаются утверждать, что В. Чалмаев просто спутал Константина Николаевича Леонтьева с Борисом Николаевичем Леонтьевым… А с кем тогда спутал Чалмаев Чаадаева, сказав, что К. Леонтьев – это «Чаадаев 60—80-х годов»?
Никто тут ни с кем не спутан: все дело в методе критика; и вот, чтобы раскрыть принципы этого метода, я должен обратиться к некоторым, на мой взгляд, очень характерным «мелочам».
Я, например, совершенно согласен с Суровцевым, что эпиграф к статье выбран неудачно. Не кажутся мне удачными у Чалмаева и «лобные места», когда он пишет: «Не много было лобных мест, откуда возвещала о себе в течение веков стыдливая русская душа…», хотя тут не более прав и Суровцев, дающий под восклицательный знак такую фразу: «Да едва ли не вся передовая русская литература до Октября 1917 года была той трибуной, – восклицает он, – которая сплошь и рядом усилиями народных угнетателей превращалась в лобное место!»
Я не стану пространно толковать значение понятия «лобное место», а приведу для краткости толкование В. Даля: «Лобное место, возвышенность, холм, курган, сопка; место казни, видное со всех сторон; в этом знач. переведено в евангел. calvarium, «темя». Лобное место, в Москве, каменная подвысь против Спасских ворот; никогда не была местом казни, а царским и патриаршим, при беседе с народом, при народных торжествах и молебствиях; с него же читались указы, приговоры; казни происходили близ, на площади Китай-города».
Я вполне доверяю авторитету В. Даля и могу только сказать, что сравнением или образом никогда не может быть слово, обозначающее неодинаковые по содержанию понятия. В то же время нельзя одним значением опровергать другое, когда они оба истинные, так что каждый из критиков по-своему не прав.
Мне кажется, В. Чалмаев ошибочно зачисляет героя пьесы А. Арбузова «Годы странствий» Александра Ведерникова в разряд «стопроцентных мужчин» на основании одной такой реплики: «Оставим скромность неудачникам, она их здорово украшает…». Даже в первом действии, когда Ведерников в разговоре с Кузей (причем в шутку) произносит эти слова, он для «стопроцентного мужчины» слишком часто «мечется» и сомневается.
«Лобное место» – только трибуна… Ведерников – «стопроцентный мужчина»… К. Леонтьев – друг Л. Толстого… Дело в том, что главным изъяном метода Чалмаева как критика является порой слишком однозначное, буквальное прочтение текстов. Так, у Л. Толстого есть в дневнике такая запись: «Был у Леонтьева. Прекрасно беседовали. Он сказал: вы безнадежны. Я сказал ему: а вы надежны. Это выражает вполне наше отношение к вере. Потом поехали. Весело ехали до Мишнева, сорок верст от Оптиной. Ночевали в избе».


