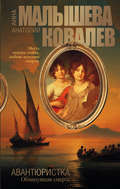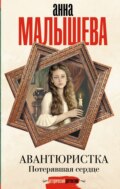Анна Малышева
Отверженная невеста
Не заехав в родительский дом и не повидавшись с отцом, он отправился обратно в полк.
Агония графа Ростопчина продолжалась целых десять месяцев. Болезни разом накинулись на него, самая страшная и неизлечимая среди них была грудная водянка, парализовавшая легкие. Доктор Пфеллер, лечивший графа, как-то заметил Александру Булгакову: «Душевные страдания, вызванные смертью дочери, сменились физическим недугом, и этот процесс уже необратим».
В декабре тысяча восемьсот двадцать пятого года боли стали невыносимыми, и Федор Васильевич умолял докторов не давать ему больше лекарств, желая поскорее умереть. Однако несколько капель опиума успокаивали его, облегчали страдания, и он мог немного поспать.
В своих предсмертных записках он писал: «Я ожидаю смерти без боязни и без нетерпения. Моя жизнь была плохой мелодрамой с роскошной обстановкой, где я играл героев, тиранов, влюбленных, благородных отцов, но никогда лакеев».
Известие о кончине императора Александра оставило его равнодушным. Он написал: «По странному совпадению, Александр умер в Таганроге, городе, служившем в прошлом столетии местом ссылки преступников, и, несомненно, его тело было набальзамировано Виллие, придворным хирургом, принимавшим участие в убийстве Павла, перерезавшим ему сонную артерию, после того как он был задушен».
Узнав о восстании дворян на Сенатской площади, бывший губернатор воскликнул: «Во Франции сапожники решили стать князьями, а у нас князья вознамерились попасть в сапожники!»
Накануне Рождества стало очевидно, что конец близок. Пфеллер честно признался графу, что бессилен его спасти, и сообщил, что тот вряд ли доживет до нового года. Ростопчин с щедростью русского барина заплатил доктору три тысячи рублей и велел позвать приходского священника. За исповедь он заплатил тысячу рублей и сказал батюшке в присутствии своего секретаря Булгакова и графини:
– Совершайте погребение один, пусть гроб будет скромный и пусть меня похоронят рядом с дочерью Лизой, под простой мраморной плитой с надписью: «Здесь покоится Федор Ростопчин», без всякого титула.
После ухода священника он тихо застонал и воскликнул:
– Боже, сжалься над бедным грешником, прекрати мои страдания!
– Страдания преходящи, а небесное блаженство вечно, – поспешил утешить его Булгаков.
– Нет, – покачал головой граф, – я не достоин Царствия Небесного.
– Кто унижается перед Господом – возвышается, – вставила Екатерина Петровна. – Вспомни, друг мой, о разбойнике Варраве и не сомневайся в милосердии Божием.
– Разбойник я и есть, – задыхающимся голосом произнес бывший губернатор. – Император Александр не простил мне казни Верещагина, не простит и Господь, хотя я только что покаялся в этом самом страшном моем грехе…
Утомленный и взволнованный, он упал на подушки и затих. Никто не проронил ни слова, секретарь и графиня словно впали в оцепенение.
Тридцатого декабря поутру с графом сделался нервный удар, парализовавший язык. Тем не менее можно было разобрать все, что он говорил. Ростопчин приказал собрать всю прислугу и просил у нее прощения. После своей смерти он велел всех дворовых людей отпустить на волю с дорогими подарками.
– Граф, – выбрав минуту, обратился к нему Булгаков, – на вашем старшем сыне тяготеет ваш гнев. Простите его перед смертью.
– Ах, мой дорогой друг, как я вам благодарен. – Умирающий пожал руку секретарю. – Вы напомнили мне, что я отец повесы и картежника! – Подумав с минуту, он обратился к графине: – Я благословляю и прощаю Сергея. Если его долги окажутся больше оставленного мною ему наследства, выплачивай ему ежегодно по двадцати тысяч франков.
Вечером того же дня графа соборовали и он, попрощавшись со всеми, приготовился умереть. Однако прогнозы докторов не оправдались. Ростопчин продолжал жить и мучиться, наперекор науке. «Я ничего не понимаю, – спустя неделю разводил руками Пфеллер на срочном консилиуме. – Он уже почти две недели живет с полностью парализованными легкими! Это уникальный случай!»
– Доктор, ради бога, кончите мои мучения! – Граф то умолял Пфеллера, то кричал на него. – Я прошу смерти. Я требую смерти, черт возьми!!!
Дежурные десять капель опиума успокаивали графа, притупляли боль, и он погружался в сон. Так умирающий протянул еще одну неделю.
Единственной утехой последних дней жизни неистового губернатора было шампанское, которое доктора благосклонно разрешили ему пить, правда, разбавленным сельтерской водой. Да еще на мгновение скрашивали мучения письма друга семьи, действительного тайного советника Николая Николаевича Новосильцева, приближенного к императору Николаю. В письмах он сообщал, что всякий раз, как попадается на глаза его величеству, тот не забывает справиться о здоровье графа и желает ему скорейшего выздоровления.
Пятнадцатого января в облике Ростопчина произошли зловещие изменения: на лице и на руках у него выступили синие пятна, один глаз совершенно провалился в орбиту, речь стала все более бессвязной. Тем не менее он попросил бокал шампанского. Осушив его до дна, пожал руку Булгакову и слабым движением пальцев потрепал за волосы Андрюшу. Последними его внятными словами стали: «Прощайте, прощайте, я умираю!» Дальнейшей речи уже нельзя было разобрать.
Восемнадцатого января тысяча восемьсот двадцать шестого года, в восьмом часу вечера граф Федор Васильевич отмучился. Его похоронили рядом с Лизой, как он и просил. Графиня Екатерина Петровна снова не пожелала присутствовать ни на погребении, ни на панихиде.
На мраморной могильной плите была начертана эпитафия, которую граф сочинил за несколько лет до смерти на французском языке:
«Здесь нашел себе покой,
С пресыщенной душой,
С сердцем истомленным,
С телом изнуренным,
Старик, переселившийся сюда.
До свиданья, господа!»
…Далеко не все подробности этой печальной повести были известны графу Сергею, но и того, что он поведал своим спутницам, хватило, чтобы Елена погрузилась в сумрачное молчание, а чувствительная Майтрейи тихонько всплакнула в уголку кареты, от души жалея свою безвременно погибшую, неизвестную ей ровесницу. Рассказ, начатый невдалеке от мятежного Парижа, граф Сергей закончил уже в Швейцарии. О последних днях Лизы и отца он был осведомлен из писем сестры Натальи. Многому та была свидетельницей сама, а прочее узнала от секретаря графа, доброго и верного Булгакова.
Елену эта история серьезно озадачила. Виконтессу удивляло, что Софи, ее лучшая подруга, ничего ей не рассказывала о смерти сестры и отца. Правда, та целый год не снимала траура, но все так же бойко обсуждала в салонах последнюю книгу Шатобриана или светскую сплетню и не выглядела удрученной. В Россию, на могилу отца, Софи даже не собиралась, впрочем, по уважительной причине, из-за очередных родов. Но теперь Елена не сомневалась, что не будь этой причины, нашлась бы другая. Живя в Париже, мадам де Сегюр настолько отмежевалась от родины и от семьи, что казалась уже вовсе не русской и не Ростопчиной.
– Вы не находите, дорогая виконтесса, что моя сестра Софи сильно изменилась? – словно прочитал ее мысли граф Сергей.
– Мы все меняемся с годами, – ответила она.
– Она сделалась скупа и расчетлива, как настоящая француженка.
– И в чем же это выражается? – усмехнулась Елена. – В том, что Софи не дала вам денег в дорогу? А кстати, почему у вас нет денег? – напрямик спросила она. – Ведь отец не забыл о вас перед смертью.
– Все, что он мне оставил, ушло на оплату долгов и на мое лечение в Италии, а те двадцать тысяч франков, которые матушка должна была высылать мне ежегодно, она ни разу не выслала. В ответ же на мои просьбы о деньгах она попросила меня приехать за ними в Москву…
– Поэтому вы и едете в Россию?
– Разумеется, – не стал кривить душой граф, – хотя знаю наверняка, что она задумала.
– Не трудно догадаться, – зорко взглянула на него виконтесса. – Она хочет вас перекрестить в католика за счет денег вашего отца. Другими словами, хочет купить вашу измену.
– Только вряд ли ей удастся этот фокус! – воскликнул Серж Ростопчин и торжествующе прищелкнул пальцами.
– Вы настолько крепки в православной вере? – удивилась Елена.
– Дело не во мне, – махнул он рукой, – я бы перекрестился и глазом не моргнул. Император Николай, в отличие от своего старшего брата, ярый противник таких переходов в другую конфессию. За нашей семьей теперь, как вы понимаете, установлен особый надзор. Едва мой отец отдал богу душу, император тотчас же распорядился отобрать у матери младшего сына, чтобы она не смогла его перекрестить, и наш добрый Булгаков лично отвез Андрюшу в Петербург. Брат был отдан на попечение своего зятя Нарышкина, супруга Натальи, и помещен в пажеский корпус.
– Бедный мальчик! – воскликнула Елена.
– Не такой уж он и бедный, – возразил граф Сергей. – Андрюша оказался первостатейным мотом и потратил за годы учебы сорок тысяч рублей на всякие удовольствия. Мне с моими жалкими картежными долгами такие суммы не снились! Недавно «бедный мальчик» потребовал у матери еще шестьдесят тысяч…
– Неужели ваша матушка ему их предоставила?!
– Еще как! – без тени зависти произнес граф. В его голосе, напротив, слышалось восхищение. – Мать не смеет ему ни в чем отказывать. По всей видимости, в душе она еще надеется сделать из Андрюши примерного католика. Отец оставил после себя около миллиона капитала, но такими темпами «бедный мальчик» скоро спустит все до копейки.
– Кажется, он еще несовершеннолетний?
– Этот ловкий малый исправил свою метрику и сам сделал себя совершеннолетним…
– То есть как – исправил? – изумилась виконтесса. – Разве это не противозаконно?
– О, дорогая моя благодетельница! – фамильярно воскликнул Серж. – В нашем отечестве закон всегда на стороне того, у кого звенит в кармане.
– Представьте себе, эту неприглядную истину я хорошо усвоила еще в юном возрасте, – тоскливо произнесла Елена. Отвернувшись, она смотрела в окно. По обе стороны дороги тянулись аккуратно нарезанные пшеничные поля и бархатные луга, на которых бродили стада откормленных коров. Сгущались сумерки, пахнущие лавандой, молоком и медом. Тягучий звон коровьих колокольчиков мешался со звоном в отдаленной церкви, невидимой в альпийских предгорьях. Эти звуки навевали на женщину глубокую грусть, странно обессиливали ее. Была минута, когда ей захотелось остановить карету, выйти одной и затеряться в этих душистых полях, раствориться в тускнеющих красках вечера.
– И что же ваш брат? – сделав над собой усилие, после долгой паузы спросила она. – Вышел из пажеского корпуса?
– Разумеется, – кивнул граф, – хоть и не окончил курса. Директор заведения получил от него в подарок тройку коней ростопчинской породы из конюшен Воронова, ведь он закрыл глаза на подделанную метрику. Андрюша нынче служит в кирасирском полку в Гатчине, под командованием бывшего Лизиного жениха Бориса Белозерского. Кажется, он вам родственник?
– Кузен, – подтвердила виконтесса.
– Вот видите, – улыбнулся Сергей, – мы едва с вами не породнились.
Елена давно отметила про себя, что у графа очень приятная улыбка.
Путешественники остановились на ночлег в маленьком швейцарском городке. Старинный постоялый двор, прелестный, как рождественская игрушка, оказался настолько тесен и неудобен, что виконтессе пришлось разместиться в одной комнате с Майтрейи. Девушка, не проронившая за весь день ни слова, к вечеру разговорилась, в то время как Елене хотелось побыть одной и помолчать.
– Этот граф очень мил и любезен, – рассуждала принцесса, сидя на широкой кровати и наблюдая за Лучинкой, которая оплела ее руку и ползла по ней все выше, направляясь к шее и подбородку. «За вечерним поцелуем», – называла этот маневр своей питомицы Майтрейи. – Ни за что нельзя сказать, что он сидел в тюрьме.
– В тюрьмах зачастую сидят весьма достойные люди, – неохотно ответила виконтесса. – И, напротив, отъявленные негодяи чаще всего остаются на свободе.
– Откуда ты это взяла, Элен? – не поверила ей принцесса. – Из книг? Ты столько читаешь…
Елена, сидевшая в кресле, держала в руках роман Стендаля «Арманс, или Сцены из жизни парижского салона 1827 года», рекомендованный в дорогу Софи де Сегюр. Книга ее не увлекала, она никак не могла продвинуться дальше первых страниц.
– Из жизни, моя дорогая. Все-таки я старше тебя почти вдвое и кое-что уже повидала…
– А мне ничего никогда не рассказывала! – возмутилась Майтрейи. – Можно подумать, у тебя вовсе нет прошлого!
– Придет время – расскажу, – пообещала виконтесса. – Вспоминать худое – не слишком-то приятное занятие. А теперь давай спать! – сказала она уже строго. – И, пожалуйста, на этот раз спрячь свою змею в ящик. Не желаю, чтобы эта тварь по мне ползала!
Елена загасила свечи, оставив только одну для чтения. Майтрейи, измученная путешествием, быстро уснула крепким ребяческим сном.
Виконтесса еще долго сидела в кресле, держа перед глазами книгу, но не понимала ни строчки. Мысли ее были далеко отсюда. Рассказ графа Сергея взволновал ее глубже, чем она думала.
«Ростопчин, которого ненавидела вся Москва за пожар, за афишки, за казнь Верещагина и за многое другое, умер как святой мученик! – Елена была одновременно поражена и уязвлена. – Не иначе, Лиза, его “ангельчик”, любовью и молитвами избавила отца от адова пламени и унесла за собой на небо». Виконтесса вспомнила, как бывший губернатор подходил к ней в салоне мадам Свечиной, чтобы попросить прощения. «Что ж, Федор Васильевич, я вас прощаю…» – прошептала она, и в тот же миг ей сделалось нехорошо. Ведь так, чего доброго, недолго простить всех своих врагов! «Нет, не за тем я еду в Россию!» – выговорила себе Елена и вдруг почувствовала, как кто-то тронул ее за ногу. Виконтесса содрогнулась, но в следующий миг уже взяла Лучинку в ладонь, без всякой брезгливости.
– Вот непослушная девчонка! – с усмешкой произнесла Елена вслух, сама не зная, упрекает она Майтрейи или змейку.
В ответ Лучинка ласково обвилась вокруг ее запястья.
Глава четвертая,
в которой давняя тайна покупается на вес бриллиантов
Князь Павел Васильевич Головин настолько прикипел душой к Туманному Альбиону, что никакие силы не могли заставить его вернуться на родину. Даже смерть отца и просьба матери помочь ей продать родовое поместье на Псковщине не тронули сердца этого уже изрядно поблекшего денди. Нельзя было и предполагать, что в неприступной крепости вдруг образуется брешь! А пробил ее один уклончивый намек, случайно оброненная фраза… Но исходила она не от какого-нибудь светского пустозвона и проныры, а от самого Христофора Ливена, русского посланника при английском дворе. Именно он шепнул князю на ухо во время конной прогулки: «Кое-кто в Петербурге хотел бы видеть вас при новом правлении в Сенате». Этого оказалось достаточно, чтобы на следующий день князь Павел объявил жене и дочери:
– Пора ехать в Россию!
– Если это шутка, дорогой, то неуместная, – нахмурилась княгиня Ольга Григорьевна. Каждый год муж исправно обещал, что они поедут домой, но поездка по той или иной причине столь же исправно откладывалась. Пятнадцать лет княгиня не видела своих престарелых родителей, живущих в Твери, а старики писали в Лондон слезные письма, горюя о том, что умрут, не повидав внучку Танюшу.
Татьяна имела самое смутное представление о своей родине, поэтому не знала, радоваться ей или огорчаться решению отца. Ее английская бонна всегда с ужасом вспоминала Петербург, говорила, что там смертельно холодно зимой, а летом грязно, душно и сыро, как в склепе. «И по улицам вшивые мужики выгуливают вшивых медведей!» – добавляла она с брезгливой гримасой. Совсем другие речи вела Дарья Ливен, супруга посланника. «Не понимаю, почему отец не учит тебя русскому языку, – возмущалась она, – ведь рано или поздно вы вернетесь в Россию. Стоит тебе там немного пожить, и уже не захочется никакой Европы. Спорить не стану, здесь намного чище… Чисто, как в спальне старой добродетельной мисс… И так же, деточка моя, отчаянно скучно!»
Когда княгиня Ольга поняла, что намерения супруга на этот раз серьезны, она подняла на ноги всю прислугу и перевернула дом вверх дном. Собрались в считаные часы, и уже через неделю, а именно в августе тысяча восемьсот двадцать восьмого года, семейство Головиных в сопровождении многочисленной челяди ступило на родную землю, воспользовавшись преимуществом морского путешествия.
Князь Павел снял на Каменном острове небольшой особняк в готическом стиле, с витражными окнами, мрачноватый, но вместе с тем уютный. Раньше он принадлежал какому-то эмигранту, члену Мальтийского ордена, отбывшему на родину под фанфары Реставрации. Однако княгиня с дочерью не задержались в новом доме даже на день и сразу отбыли в Тверь. Князь же с юношеским рвением принялся устраивать собственную карьеру. Он нанес визиты разным почтенным особам, с трудом узнавшим в нем «того самого повесу Головина», некогда славившегося громкими кутежами на всю столицу. Посетил самые знаменитые петербургские салоны, задал несколько пышных холостяцких обедов, и уже к зиме двадцать восьмого года удостоился избрания в Сенат, о чем было упомянуто во всех газетах.
Девятнадцатого декабря того же года князь был приглашен на бал во дворец по поводу тезоименитства императора Николая. Он даже удостоился непродолжительной беседы с его величеством. Император в частности спросил, не встречал ли он в Лондоне одну очень известную персону. Головин готов был к этому вопросу, прекрасно зная, что «та самая персона» замешана в бунте на Сенатской площади. Вернее, персона входила в одно из преступных тайных обществ, которые весьма распространились в России за время предыдущего правления. «Мы вращались в разных кругах, ваше величество, – выдал он заготовленную фразу, – и ни разу не сталкивались». По той быстроте, с какой император тотчас потерял к нему всякий интерес, Павел Васильевич понял, что от него ждали совсем другого ответа. Зато императрица Александра Федоровна удостоила его особым вниманием, подробно расспросив о лорде Байроне и Вальтере Скотте, с коими он не только виделся, но и долгие годы дружил.
Так как княгиня Ольга с дочерью до сих пор не вернулись из Твери, князь Павел мог свободно флиртовать с дамами из высшего света, правда, держась в рамках приличия, дабы не спровоцировать дуэль. Оттанцевав, несмотря на свои пятьдесят лет, все туры и выпив за здоровье его величества невероятное количество бокалов шампанского, Павел Васильевич в пятом часу утра отбыл на Каменный остров.
Снимая с князя шубу, камердинер еще в передней почтительным шепотом сообщил, что в гостиной с вечера дожидается какая-то дама и ни за что не желает уходить.
– Дама? – приятно удивился захмелевший Головин. – Н-ну, тем лучше!
Гостья устроилась в кресле, едва освещаемом единственной, уже сильно оплывшей свечой. Склонив голову на грудь, она безмятежно спала. На ней было широкое платье из темно-зеленого бархата, рядом на столике лежали пелерина, подбитая собольим мехом, и дорожная шляпа.
С первого взгляда дама показалась князю совершенно незнакомой. На цыпочках, чтобы не разбудить гостью, он подкрался поближе и принялся ее разглядывать. Это была блондинка, на вид лет тридцати, с красивым, хоть и помятым лицом. Теперь ему смутно припоминалось, что он уже где-то видел эту женщину. Князь взял в руку подсвечник и поднес пламя совсем близко к лицу незнакомки. В тот же миг Павел Васильевич вздрогнул, едва не уронив свечу на ковер, и отпрянул назад. Почти одновременно с этим гостья открыла глаза, жеманно потянулась, бесцеремонно зевнула, не прикрывая рта, и с улыбкой сказала:
– Ну вот и встретились, князюшка! А я вас заждалась…
Головин с трудом узнавал в этой женщине ту прекрасную табачницу, в которую был когда-то влюблен. Зинаида по-прежнему была хороша, все так же трогательна казалась родинка в виде слезы под ее глазом – по ней он и узнал бывшую любовницу… Но во взгляде женщины появилось теперь что-то фальшивое и весьма неприятное. Она встала, аккуратно приняла из его дрогнувшей руки подсвечник и зажгла от него свечи во всех канделябрах. Держалась незваная гостья попросту, будто находилась у себя дома.
– Кто дал тебе мой адрес? – сухо, почти грубо спросил он. Эта женщина больше не будила в нем желания, напротив – бесила и раздражала его.
– Никто, миленький князюшка! Я из газет узнала, что вы вернулись из Англии и стали сенатором. Найти ваш дом было нетрудно – гривенничек там, пятиалтынный здесь… Вы, небось, и не знаете, как болтливы швейцары и будочники! Ну и на извозчика потратилась, не без того!
Раньше, ослепленный любовью, он не замечал ее вопиющей вульгарности, теперь замашки лавочницы резко бросались в глаза. Князь, отбросив церемонии, уселся за ломберный столик, закинул ногу на ногу и пододвинул к себе коробку с сигарами.
– Я вижу, ваши вкусы в отношении сигар не изменились. – Зинаида услужливо поднесла ему огонек. – А вот меня вы не рады видеть. Неужели я так подурнела?
Князь раздраженно выпустил ей в лицо клуб дыма. Зинаида и глазом не моргнула, лишь на ее губах зазмеилась уязвленная улыбка.
– Без сантиментов, пожалуйста, – грубо произнес Головин. – Зачем явилась?
– О, не бойтесь, добиваться заново вашей сердечной склонности я не собираюсь! Как-никак, прошло пятнадцать лет, а от времени хорошеют только вина и сигары, уж никак не женщины! – Зинаида рисовалась, явно повторяя чьи-то слова, запомнившиеся ей, но в ее зеленых глазах вспыхивал злой огонек. – Однако нам и теперь есть о чем поговорить.
– О чем же? – пожал он плечами, ничуть не впечатленный ее эскападой.
– Хотя бы о том, как вы стали отцом, благодаря мне. – Улыбка исчезла с лица Зинаиды, глаза угрожающе потемнели.
Такого выпада Головин никак не ожидал. Махинация с новорожденным младенцем, совершенная ими по взаимному согласию много лет назад, давно казалась Павлу Васильевичу чем-то из области преданий и анекдотов. Князь до того свыкся с мыслью, что Татьяна – его дочь, что ему в голову не приходило опасаться разоблачения. «Лучший способ обмануть других – самому поверить своей лжи!» Эти и подобные изящные сентенции он щедро изрекал в гостиных Лондона и Петербурга, никогда не думая о том, что они имеют самый неприглядный смысл.
– Что ж, изволь, поговорим, – судорожно бросил он, стараясь не подать виду, что лавочница его напугала.
– Как мило, что вы меня не гоните! – зловеще усмехнулась женщина, явно сознавая свое преимущество. – Дело несложное… В то время, пока вы с семейством жили в свое удовольствие за границей, я видела только несчастья. Помните мою табачную лавочку? О, по глазам вижу, помните… Ее больше нет. Теперь я полностью разорена и живу на содержании у одного состоятельного покровителя. Но я терпеть его не могу! – Зинаида вполне убедительно изобразила гримаску отвращения. – Мне нужны деньги, чтобы натянуть нос моему старику и уехать из этого проклятого города навсегда.
– Деньги? Неужели твой «состоятельный покровитель» не дает тебе денег? – презрительно скривился князь.
– Не дает, разумеется! Старик боится, что я удеру! – прямо ответила она.
– Хорошо. Сколько тебе нужно?
– Тысячу рублей.
– Пс-с! – изумился Павел Васильевич. – А если я не дам?
– В таком случае… – Зинаида изобразила сладкую улыбку, с какой в былые времена навязывала клиентам дорогой сорт табака взамен ординарного, и промурлыкала: – Ваша дражайшая супруга получит анонимное письмо, из которого узнает всю правду.
– Мерзавка! – крикнул он в сердцах, но немедленно полез в карман за портмоне. Нужная сумма как раз была при нем – князь собирался платить каретнику. Отсчитав ассигнации и раздраженно бросив их на ломберный столик, Головин прошипел: – На, подавись! И помни, такая штука удалась тебе один-единственный раз! Еще покажешься близко от моего дома – в порошок тебя сотру, шлюха!
– Ах, князюшка, каким же вы стали, однако, грубияном! – воскликнула та, ничуть не смутившись. – А раньше были таким обходительным, милым мальчиком. Вот и верь тем, кто говорит, будто заграница идет на пользу манерам!
– Вон отсюда! – заорал он, указывая ей на дверь.
Зинаида схватила деньги, бегло пересчитала их, скомкала и запихала в ридикюль.
– Прощайте, князь! – через плечо вымолвила она и удалилась чуть не бегом, будто боясь, что деньги отнимут.
Морозное декабрьское утро взбодрило ее, Зинаида шла быстро, крепко давя каблучками визжащий слежавшийся снег, оглядываясь в поисках извозчика. Наконец с нею поравнялся «ванька».
– На Васильевский! – крикнула она ему. – На Шестнадцатую линию!
Сонная заиндевевшая лошадка едва перебирала ногами. «Ай да князюшка! – ежась, негодовала про себя Зинаида. – Прежде ручки целовал, а нынче взашей погнал!»
Если бы князь Головин, сенатор, потомственный аристократ и настоящий денди, узнал, что его гостья пятнадцать лет состояла владелицей тайного публичного дома, торгуя малолетними девицами, то он наверняка вызвал бы квартального с приставом и потребовал бы немедленного заключения старой знакомой под стражу. Вряд ли помог бы ей в этом случае шантаж, да и кто дал бы веру словам бывшей сводни? В последнее время ей чудом удавалось избегать тюрьмы. Зинаида состояла в розыске и жила по поддельным документам. А ведь еще совсем недавно дело ее процветало, приносило немалый доход и на горизонте не предвиделось никаких туч. Всех своих клиентов она знала много лет, квартальный с частным приставом Илларионом Калошиным были подкуплены и бесплатно пользовались услугами девочек. Ей неоткуда было ждать удара, она жила припеваючи в заново отстроенном, теплом, каменном доме, ни в чем себе не отказывая. И надо же было такому случиться, одна какая-то несчастная бумажонка поломала всю ее жизнь! Подана эта бумага была в управу благочиния на имя старшего полицмейстера. Подписал ее некий барон фон Лаузаннер. Кто он такой? Она впервые слышала эту немецкую фамилию. Снова немцы вмешиваются в ее дела, как и тогда с табачной лавкой! Как удалось этому треклятому Лаузаннеру все вынюхать и высмотреть, причем она и в глаза-то его никогда не видела? Мерзнуть бы ей сейчас в сибирских снегах, издыхать и наживать чахотку на каторге, если бы не частный пристав Калошин…
…Она помнила катастрофу в мельчайших деталях. Большие напольные часы в приемной зале пробили двенадцать раз. Наступила полночь, самое горячее время, когда Зинаида беспрестанно встречала и провожала гостей, занимаясь (по ее собственному выражению) «сбором средств на пропитание юных сироток». Разряженная хозяйка публичного дома грациозно восседала на кушетке с грифонами, обтянутой рытым розовым бархатом. Специально для приемной она, не пожалев денег, приобрела итальянский ореховый гарнитур, великолепно смотревшийся на фоне бледно-зеленых обоев с серебристыми розами. «У этой мещанки совсем не плебейский вкус, – сказал как-то один из ее клиентов-аристократов своему приятелю и с ухмылкой добавил: – Беда только, при ближайшем рассмотрении эта дива вульгарна до последней степени!»
Нанятая недавно пианистка, иссохшая старая дева, сидела за клавиаккордами, чопорно наигрывая что-то убаюкивающее и в высшей степени «приличное». «У меня не какая-нибудь грязная дыра, где пляшут пьяные матросы со спившимися шлюхами! – надменно предупредила музыкантшу Зинаида еще при найме. – У меня чистота, порядок, девочки одна к одной, свеженькие, как весенние цветочки, и клиенты самые почтенные. Чтобы и музыка тоже была приличная, запомните это!» Девка Хавронья, сильно сдавшая за последнее время, похожая на старуху в свои сорок лет, отрешенно вязала носок и клевала носом под эти сонные наигрыши. По обыкновению, она сидела на стуле у входа, готовая по первому мановению хозяйки подать чай, вино или кофе с ликерами. Из угла в угол слонялись три девочки в светлых муслиновых платьях, с веерами в руках. Они выглядели дебютантками, собравшимися ехать на свой первый бал. Девочки весело щебетали, хихикали, грызли леденцы и выглядывали в окна.
Вдруг резко распахнулась входная дверь, едва не слетевшая с петель. Музыкантша взвизгнула, мелодия оборвалась. На пороге стоял частный пристав Илларион Калошин. Он был не похож на себя: волосы растрепаны, мундир расстегнут, в остановившихся глазах застыли паника и страх. К тому же он крепко выпил, чего прежде за ним не водилось.
– Фу, надрался, несет, как из бочки! – поморщилась Зинаида. – Что стряслось?
– Всему конец! – выдохнул тот вместе с винными парами и упал в хрустнувшее дамское кресло. – Закрывай лавочку, Зинаида Петровна. Хватай деньги и беги, пока ноги целы! А не то в Сибирь отправишься, на каторгу!
– Да ты что, очумел? – рассмеялась она. – Мне бежать?! Куда? Зачем?
– Бумага на тебя поступила в управу…
– Что за бумага? – насторожилась Зинаида, почувствовав, что пристав не шутит.
– Кто-то из твоих гостей донес, все подробно описал, гад… Не угодила, видно, чем-то! – Калошин обвел взглядом залу и, уставившись на девочек в муслиновых платьях, прохрипел: – Гони всех в шею немедленно! Слышишь? С минуты на минуту придут к тебе с облавой!
– Да не приснилось ли тебе это? Не померещилось спьяну? – все еще не верила ему Зинаида, хотя у нее уже дрожали и руки и ноги.
– Эх, дура ты, дура! – Калошин растер ладонями покрасневшее лицо. – Не так я пьян, как со страху развезло… Через тебя и мои дела пошли прахом, Зинаида Петровна. Старший полицмейстер сегодня грозился не только мундир с меня сорвать, но и отдать под суд за сокрытие преступления. Ведь в бумаге той прямо фамилии указаны, кто тебя покрывал, – я и квартальный Селиванов. И откуда взялся этот немец-доносчик на наши головы? – Пристав судорожно вздохнул и, понизив голос, добавил: – А вот чего никак не пойму… В той же бумаге описано мое разбойничье прошлое. Все до ниточки – как, что и когда… Об этом-то он откуда узнал, дьявол?! Так что мне теперь один путь – бежать из города обратно в лес и начинать старую волчью жизнь сызнова.
Он еще не успел договорить, а Зинаида окончательно уверилась в его правдивости. Ее бросило в жар и тут же будто морозом охватило.
– Что расселась? – крикнула она остолбеневшей Хавронье. – Беги, собирай вещи! Да тряпки-то ношеные не укладывай, только лучшее бери, да серебро, да меха… Чего ждешь, корова, наказание мое, чурбан безглазый?!
Ругательства подействовали на Хавронью безотказно – уронив вязанье, она бросилась выполнять приказ. Музыкантше Зинаида велела подняться «в комнаты» и предупредить господ о готовящейся облаве. Старая дева покраснела до кончика носа и с уязвленным видом стала медленно взбираться по лестнице, явно обдумывая, как бы улизнуть.
– А девицам там скажи, пусть катятся на все четыре стороны, да живей! – крикнула ей в спину хозяйка публичного дома.
Земля уходила у нее из-под ног. Пятнадцать лет благополучия нежданно-негаданно закончились. Впереди – неизвестность, в лучшем случае – нищета, в худшем – суд и тюрьма.