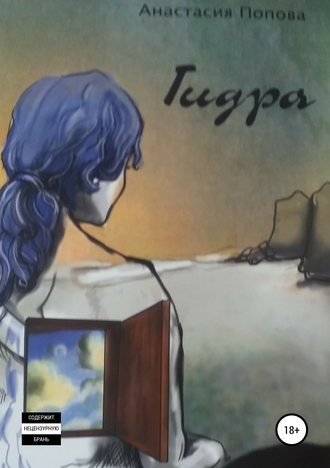
Анастасия Попова
Гидра
18.
Университет рухнул! Не поняли? А-а-а! Универ рухнул. Всё. Трындец. Владивостока больше нет.
19.
Как это произошло? Гидра своими щупальцами окутала весь университет. Пролезла на все руководящие должности. Потом в щупальцах началось брожение, потому что один занял место, на которое претендовал другой. И так по каждому креслу. В итоге щупальца стали волноваться, повышибали все стены. Крыша упала. Университета больше нет.
Впрочем, то, что нет университета, взволновало только всех студентов, преподавателей и меня. Больше никого. И не потому, что люди превратились в бездушную скотину. Просто Гидра обрушивала всё. Турфирмы, рестораны, гостиницы… Всё, где работали люди, которые не были в Гидре. Всё, где хоть кто-то работал, потому что Гидра работать не умела.
А знаете, что самое плачевное? У Гидры не осталось денег. Чёрное озеро, которое закладывалось миллионами лет, было вычерпано за … за год или два. Я сейчас и не скажу.
Зато с какой радостью я вышла в эфир и объявила, что больше ничего не осталось. Чёрное озеро – больше не озеро. Это всего лишь небольшая ложбинка в земле.
Гидру заколбасило. Люди, которые составляли её, стали пытаться выбраться. Поэтому Гидра была удивительно похожа на больного ДЦП, которого не слушаются ни руки, ни ноги, ни язык. Вернее, язык – это единственное, что слушалось Гидру. Айдия, когда-то моя хорошая знакомая, кричала, что всё это – гнусная ложь. Фото – монтаж, документы – фикция, очевидцы – актёры. Щупальце Гидры сжалось в кулак и постучало в дверь башни. Потом в обход крутой лестницы попало прямо в эфир.
– Это наглая, вредоносная клеветническая ложь, – заявила Ботана, которая находилась на конце щупальца, – в связи с законом «О клевете против общества», вы обязаны опровергнуть данную информацию, иначе вам грозит пять лет тюрьмы.
Ботана на меня смотрела такими же стеклянными глазами, как когда-то Люба. Я понимала, что надо опровергнуть эту чёртову инфу, либо пять лет воли не видать. У меня, наверное, дрожала каждая клеточка, вплоть до кончиков волос.
– В каком формате я должна это опровергнуть? – ответила официально я.
– В каком хочешь, лишь бы было опровержение.
Я кивнула. Я собиралась уходить с Башни, всё равно она больше никому не нужна. Мне уже не было дело до того, позорно это или нет. Когда кто-то переламывает твои пальцы, навряд ли тебя интересует тема маленького человека в творчестве Гоголя. Умирающий от голода не сможет оценить красоту пейзажей Левитана. Какой придурок будет думать о душе, когда горит жопа.
– Фрида, ты одно объясни, кто тебе заплатил? – спросила многозначительно Ботана.
Я в сердцах откинула бумажку, на которой писала опровержение.
– Не ломай комедию, ты знаешь, что это правда. У Гидры больше нет денег. Озеро пусто.
– Но говорили, что американцы… что им нужно уронить нашу страну.
– Какие на фиг американцы? Озеро пусто.
Щупальце подползло ближе ко мне. Ботана ещё сомневалась. Я достала фотографии.
– Ботана, ты же знаешь основные признаки монтажа. Ты его видишь?
Ботана покачала головой.
– А вот закон о закрытии месторождение «Чёрное озеро» в связи с его опустошением. Это ваш закон. Вы всегда такие издаёте.
Ботана ещё раз кивнула.
– Чё там писать в хреновом опровержении? – раздражённо спросила я.
– Кто-то пустил слух, что озеро будет полным ещё сто двадцать лет.
– Оно уже пусто.
– Нас дезинформировали.
– Это и дураку понятно.
– Подожди, если я не доведу до сведения руководства реальную ситуацию, меня снимут с должности, а в связи с законом… не помню, с каким, и посадить могут. Я срочно должна.
О господи, спасибо тебе за дебилов! Во мне, конечно, шевельнулось, что надо де предупредить Ботану не соваться. Но если она сейчас начнёт кипишить, в этой твари начнутся ссоры, и она рухнет. Если хотите, это даже не мне надо. Это надо каждому, той же Ботане. Да ей, конечно, тумаков навставляют. Ну а что делать?
Прямо перед смотровым экраном стало болтаться щупальце. Оно извивалось, как будто в судороге. Ботана трясла в воздухе моими фотографиями и кричала:
– Чёрного озера больше нет! Надо что-то делать! Это катастрофа!
Со всех сторон щупальца на неё шикали. Но она не умолкала. Она повторяла. Наверное, до конца жизни у меня в висках будет биться: «Это катастрофа» её противным гнусавым голосом. Потому что через мгновение щупальце с размаху ударилось в экран. В какую-то секунду я успела заметить, как растекаются по стеклу её мозги. Потом экран разбился. Те, кто окружал её, взяли ложки и стали выгребать ещё тёплую плоть из черепа. Я хотела крикнуть: «Что вы делаете?» Я хотела просто открыть рот и орать-орать. Но изначально у меня вышло только: «Блин». Когда они съели всю голову, они сжали тело Ботаны, и я услышала хруст. Самый страшный хруст в мире. Всё. Ботаны больше нет. Её нет, хотя должно было не стать меня. Я её подставила.
Они продолжали есть, вытаскивая осколки разбившегося сосуда. Гидра стала есть сама себя, потому что есть больше было нечего.
В ужасе я ждала, что это страшное, жадное щупальце обовьётся вокруг меня. Я приготовилась говорить, что готовила опровержение, но ничего не вышло. Я знала – куда я сейчас ни побегу, меня достанут из самого потаённого угла. Поэтому я просто стояла в оцепенении, широко раскрыв рот и глаза. Так страшно мне не было никогда в жизни. Гидра хочет есть. Мне нечего ей противопоставить. Она может обосновать, за что я должна быть съедена. Нет ничего, что может её остановить.
Каждая моя клеточка вжалась в меня. Люди, которые были в щупальце, переглянулись, посмотрели друг на друга. У них щёки и руки были в крови. В человеческой крови. Их глаза округлились, пальцы затряслись. В тот момент, когда их охватило коллективное безумие, они не понимали, что делают. Поняли лишь сейчас. А ещё поняли, что теперь вот так от одной лишь жажды и голода Гидры может быть съеден любой. В том числе, кто-то из них. Щупальце обмякло и упало.
Я только сейчас увидела, что Башня разрушена. Экран разбился вдребезги, из пульта повылетали кнопочки. Башня рухнула. Её тоже больше нет.
20.
Я должна была думать, куда мне и что со мной будет. Но я не думала ни о чём. В моей голове роем толпились мысли. То заходили, то улетали. В моей голове не осталось ничего, кроме шума. Шума собственных мыслей. По привычке я наступила на ступеньку. Но лестница была прямая, и я полетела вниз. Очнулась я за дверьми Башни. Сначала подняла голову, потом спину.
– Больно? – спросил знакомый голос с сочувствием.
Я покачала головой и откинулась на дверь, теперь запертую навсегда и для всех. Это был Амо. Он торчал из длинного страшного щупальца, в котором люди переплелись как материал. В котором людей больше не осталось. Амо теперь тоже материал, а я продолжаю ходить с ним по облакам и надеяться, что Гидра когда-нибудь сдохнет. А я продолжаю рассказывать ему о книжке, в которой тролли строили замок. Теперь я бы отдала всё, чтобы быть тем лешим, который им мешал или хотя бы каким-нибудь троллем. Я бы отдала всё, чтобы попасть в ад, потому что страшнее этой мясорубки больше ничего не может быть. Откуда-то во мне взялись силы, и я побежала к Амо. Я вцепилась в его руку и заорала, как ненормальная:
– Что ты здесь делаешь? Тебя сожрут, пошли.
На его лице была растерянность и недоумение.
– Ты с ума сошла. Мои ноги слеплены. Я уже не могу.
– К чертям ноги. Тебя сожрут. Цепляйся в меня, я тебя вырву.
– Я не могу. Ноги…
Лучше Амо без ног, чем отсутствие Амо. Я стала реветь в голос так, как ревела в шесть лет, когда мне не покупали игрушки. Я ревела на всю улицу, искривив лицо в страшной гримасе.
– Пошли. Я тебя вырву, – орала я сквозь слёзы.
– Я не могу. Я скован. Надо продумать план… Как вырваться так, чтобы ничего не было.
– Да уже всё было. Ни секунды нельзя думать. Надо просто выйти отсюда и всё.
– Это невозможно.
Я заметила, как Амо оглядывается. Как будто ему было неловко от того, что он меня знает. Мне стало так противно, что едва смогла сдержать тошноту, которая подкатила к горлу.
– А если сожрать кого-то придётся, сожрёшь?
– Этого не случиться.
– Это только что случилось. Теперь вы будете жрать друг друга, потому что жрать нечего. Сожрёшь? Сожрёшь человека?
Глаза Амо стали холодными и злыми.
– Сожру. А, если надо, сожру тебя. Только вот жрать нам есть что. Нам все обязаны отдавать 90 процентов продуктов. И твои папа с мамой тоже. Передавай им привет, мы скоро зайдём.
Когда я последний раз говорила с родителями, папа сказал, что времена уж не те, но по-маленечку они живут. Как так по-маленечку? У моих родителей двести тринадцать коров, две сотни куриц, 30 поросят, два гектара. Если они будут отдавать почти всё Гидре, им будет нечем платить рабочим. Если они не смогут платить рабочим, у них не останется ни свиней, ни коров, ни угодий. У них не останется ничего. Как они могут жить по-маленечку, если у них больше ничего не останется? Дело всей их жизни погибает, и они смогут жить. Разве такое бывает?
Я отшатнулась и побрела, но Амо позвал:
– Фрида. Фрида, подойди.
Я подошла. Он взял рукой мою голову так, что моё ухо оказалось возле его губ. Я чувствовала его тёплое дыхание. В этой тёмной, пасмурной, холодной осени его губы – единственное, что могло согреть.
– Завтра в шесть я буду на площади. Я попробую отделиться.
– Я в село.
– Завтра в шесть. На площади…
– Я не могу. Я буду в селе.
– Будем в селе в среду. Завтра приходи…
– Я не могу, я еду домой. Меня не будет в городе.
– Поедешь послезавтра.
– Послезавтра может не остаться ни одной коровы. Я поеду сейчас.
– А завтра может не остаться меня.
– Но коровы, в отличие от тебя, не виноваты…
Мне уже было всё равно. Я пыталась его вырвать. Он решил перестаховаться. Меня интересовало только то, что осталось от нашего хозяйства. Я не буду его спасать, догонять, обнимать, целовать. Нечего плевать в протянутую тебе руку. Выкручивайся сам, а я поехала заботиться о своей шкуре.
21.
Автобус был всё тот же старый и потёртый. По нему было видно, что часа через два он, непременно, сломается. И всё же это было лучше, чем всё, что произошло со мной сегодня. Привычно я сунула в руку водителю деньги. Привычно села у окна и откинулась в мягкое кресло. Привычно холод проникал в каждую клеточку. Когда в автобусе слишком жарко или слишком холодно, я всегда засыпаю. Хорошо привычно заснуть в автобусе – единственном, что осталось от твоего города и твоей жизни.
За окном пылились пожухлые листья и стояли деревья в своей потрясающей обнажённости. Наверное, на пригородной трассе всегда будут стоять эти голые деревья, напоминая, что мы потеряли. Обычно, проезжая этот отрезок пути, я начинала думать о каком-нибудь счастливом будущем и о каких-нибудь великих свершениях и… засыпала. Пригород Гидра почти не тронула – только посыпала мишурой дорогих коттеджей. На таких длинных ножках что, казалось, они вот-вот упадут. Мне представлялось, что дома я придумываю, куда загнать коров так, чтобы Гидра своими миллионами глаз их не заметила. Потом…
Я проснулась от того, что автобус остановился. Люди о чём-то переговаривались и ходили по салону. Автобус сломался. Я вышла, угодив ногой в лужу. Мороз окутывал всё тело, проникая под негреющую осеннюю куртку. Как сейчас необходимо дыхание Амо. Я вспомнила, как его жёсткая жилистая рука взяла мою голову, и отдала бы всё, чтобы почувствовать это снова. Как сейчас нужно его дыхание, жарко бьющее по ушам. Если бы вокруг на расстоянии ста метров был бы хоть один киоск, я бы влила в себя стаканчиков пять чая… Но киосков не было. Пять стаканов горячего чая или дыхание Амо, что, в принципе, одно и то же. Необходимо и то, и другое. Нет ни того, ни другого.
Водитель ковырялся в колесе, пугая нас тем, что мы здесь заночуем. Если бы я была кошкой, я бы свернулась клубком. Я не была кошкой.
Набрала на мобильнике маму, сказала, что сейчас приеду. Мама обрадовалась, сказала, что тефтелек сделать не получится, но пюре с моими любимыми огурчиками и горячее молоко обеспечены. Я не задумалась, почему не будет тефтелек. Я просто физически ощутила, что хочу быть дома, который не тронула Гидра, в котором из крана бежит вода, а на столе что-то есть. По каким-то изотерическим учениям. А может, языческим, а может шаманским, а может, просто по философии, которую придумала Вита… Не важно. Кто-то верит, что материя – это энергия. То ли холодная энергия, то ли сжатая… душа человека – это тоже энергия. И если энергией разума и души высвободить своё тело от условностей материального мира, можно одним усилием воли перенести себя из одной точки земного шара. В какую угодно без автобусов, катеров и самолётов. А если представить, что время – не придуманный человеком механизм для измерения собственной жизни, а прямая, по которой ты движешься из точки А в точку Б, что будущее, также реально и неизменно, как прошлое, можно очутиться в мире, в котором Гидра сдохла, а те, кто был в ней, всё восстановили. И мир стал, конечно, не хорош и не идеален, а, хотя бы адекватен. Такой, какой он был до Гидры.
Я закрыла глаза и представила, что очутилась дома. Нет, я не где-то в Черниговском районе. Я дома. Я села за стол и пью молоко. Мама рассказывает о том, как Изаура, её любимая корова, засунула голову в курятник… Моих мыслей, моего желания, моей невыносимой усталости от полугодовой борьбы должно хватить на то, чтобы превратиться в энергию и оказаться дома. Но… Я не перенеслась домой. Телепортация невозможна. Материя материальна. Человеку, чтобы жить, нужны деньги, еда и крыша. Это закон. Ненарушаемый и абсолютный, в отличие от толмутов бреда, которые каждый день калякает Гидра.
Водитель по-прежнему бегал вокруг потёртого автобуса. Холод по-прежнему пронизывал каждую клеточку. И деться от этого было некуда.
Через полчаса, когда я окончательно продрогла и стала покашливать, мы тронулись. Через три часа я была уже дома. Мама выбежала всё в том же изношенном халате, в котором она была, когда я поступила на первый курс. Отец – в том же трико, в котором ходил всегда. Наверное, с момента моего рождения. Мама слегка поседела, у отца морщины стали глубже. А так… почти не изменились. Они стали хлопотать по хозяйству и расспрашивать, как в городе. Мы сели за стол. Отец поставил бутылку бражки. Мать вытащила маленькую банку огурцов и выложила три штуки на тарелку.
– Папа, где коровы?
– Милагэрэс в стойле…
– А остальные?
Отец отвёл глаза.
– Налог бешенный, сама знаешь.
– Эта тварь всё сожрала. Но мы-то живём. Живём по-тихонечку. Ужаться, конечно, пришлось, но мы не жалуемся. Нормально живём. По сравнению с людьми, прилично даже, – сказала мать.
– Пойдём, кое-что покажу, – отец хитро подмигнул мне.
В курятнике, в котором не осталось кур, была выкопана яма, в которой хранилось несколько мешков картошки, соленья-варенья. Продукты, которых, конечно, может хватить на двоих, а если очень ужаться, то и на троих человек. Всё, что осталось от огромного фермерского хозяйства с двумя сотнями голов скота, рабочими, гектарами урожая. Всё, что осталось от хозяйства, которое заработало мне на домик.
– Так что, мы живём по сравнению с людьми.
А кто люди? Алкаши, которые кормятся тем, что бабушкам рубят дрова и насобирают в лесу, а пьют всё, что горит…
Когда мне было четырнадцать, я ненавидела их за то, что они возятся в коровьем говне и прикидывают, как бы спихнуть яйца на рынке так, чтобы не оказаться в прогаре. Я не замечала, что в этой, двадцать лет пьющей деревне, мои родители – единственные люди, которые не расклеились от того, что развалились совхозы, а стали вкалывать, давать на лапу ментам и ветврачам, сажать картошку, доить коров, резать свиней…
Эти люди положили жизнь на то, чтобы не жить в бедности. А теперь отец рассказывает с умилением, с прибаутками, с ощущением своего превосходства о том, как обманывает эту чёртову тварь тем, что в стене продолбил дыру для продуктов, накопал погребов. Это всё он делал вместо того, чтобы увеличивать поголовье, покупать гектары, разъезжать по селу на новой тачке.
– Так что, взять ей у нас больше нечего. Пять банок отдать можем. Но больше – пусть и не думает, – с хитрицой поделился отец, имея в виду, что у него в закромах банок тридцать. А значит, свои 90 процентов Гидра, всяко, не получит.
Только здесь я поняла, что мы очутились в самом страшном. В том, что хуже войны, революции, болезней… Мы снова оказались в бедности. Двадцать лет надежд, борьбы, бессонных ночей и ссор нужны были для того, чтобы мы снова окунулись в эту страшную, липкую бедность, когда не знаешь, а что завтра. Все эти годы мы страдали за то, чтобы опять не уметь позволить себе купить машину, компьютер, да что там, даже новые шторы.
Если какой-нибудь человек, непонятно каким путём и зачем оказавшийся у власти, начинает уверять, что главное – патриотизм, душа, самоотдача, а любить деньги – некрасиво и недостойно… Пристрелите этого козла. Его профессиональная задача – сделать тебя богатым и счастливым.
Нет ничего важнее денег. Все любят деньги. Каждый человек. И тот, кто скажет, что это пошло, либо никчёмный неудачник, не умеющий приспособиться к тем реалиям, которые его окружают, либо лжец, который хочет показаться рыцарем без страха и упрёка, а сам в первую очередь, естественно заботится о своём багосостоянии.
Да потому что это нормально. Каждое существо на этой земле от таракана до Билла Гейтса появляется на свет для того, чтобы жить. И жить не как-то, а жить хорошо. Этот чудный, сложный, богатый мир возник из многовековой борьбы всех живых, начиная с эпохи первых амёб. И если так получилось, что мои мама и папа больше не могут есть досыта и покупать необходимое, потому что у них всё забирает Гидра, Гидра поставила однозначный вопрос – кто должен остаться в этом мире она или мы. И для нас ответ ясен – конечно, мы.
Я легла. Было холодно, потому что родители экономят дрова. И хотя холодно было уже очень давно – и в моём доме, и в автобусе, и на улице и здесь. Здесь это ощущалось сильнее, потому что я ожидала, что будет тепло. Я поблагодарила Бога, что они смогли мне купить дом до того, как появилась Гидра. Иначе мне пришлось бы вернуться. А возвращаться, отучившись пять лет и сумев войти в Башню, не просто тяжело – невыносимо. И всё-таки вернуться придётся. Вошла мама, села на стул возле моей кровати.
– Спишь? – спросила.
– Угу.
– У тебя-то как?
– Никак.
– И что будешь делать?
– Не знаю. Башня рухнула. Попробую поискать другую работу.
– Где?
– В городе. В городе всегда была какая-нибудь работа. Если получится, вольюсь в Гидру.
– Это будет хорошо. А замуж когда?
– Не знаю. Когда-нибудь.
– Уже пора.
– Замуж выходят не потому что пора, а потому что есть за кого. Пока не за кого.
Мама засмеялась.
– Так, как ты говоришь, вообще не выходят.
– Мама, мне завтра надо быть в городе в шесть.
– Жаль, мы думали, ты на недельку.
– Один человек очень просил.
– Нужный человек?
– Нужный.
– Тогда твоё дело.
Мама была разочарована. Конечно, я сейчас нужна именно здесь. Но Амо, почему-то перевешивал. Такое ощущение, что Амо в моей жизни перевешивал всё. Вот я лежу и, вместо того, чтобы думать, куда устроиться, представляю, как вытащу его, мы зайдём ко мне, попьём чай и пойдём по облакам.
– Мама, а что, ходить по облакам возможно?
– Конечно.
– А вы с папой ходили?
– Нет, мы не ходили. Мы так сошлись. В институте. Тогда все сходились, и мы сошлись. Он не из тех, видных ребят, был. Я ещё подумала: «Погуляю с этим, а потом себе кого-нибудь найду». Вот, до сих пор гуляю. Хорошо, что тогда никого так и не нашла. Твой папа, он, конечно, не Майкл Джексон и не президент какой-нибудь, а парень простой. Но зато надёжный.
– А если ты никогда не ходила по облакам, то откуда знаешь, что это возможно?
– Люди говорят.
– А если врут?
– Зачем им врать, что ж они дураки?
– Убийственный аргумент. Никто не видел, чтобы кто-то ходил по облакам. И все верят, что это возможно.
– Так и атома никто не видел, но все верят, что мир состоит из атомов.
Я хотела поспорить, дескать, существование атома – научно доказанный факт, а ходить по облакам… Но мама поставила точку.
– Спи. Завтра разбужу тебя пораньше.
22.
В пять тридцать я была на площади. Гидра не лежала, как обычно, тупым телом, состоящим из множества тел. Она буйствовала. То и дело в Гидре проскальзывали недовольные возгласы. Тогда она со всей дури била своими щупальцами по земле, по зданиям, по морю. Здания падали, в земле оставались глубокие вмятины. А пластилиновые руки, ноги, головы людей припечатывало к Гидре, размазывало об асфальт, отрывало и калечило. Гидра всё больше становилось похожей не на сумму личностей, а на окончательно слетевшее с катушек чудовище, которое поедает само себя, калечит само себя и вообще зачем существует – непонятно.
Я заметила, что в Гидре довольно многие доставали ложки и потребляли своих соседей, выковыривая глаза, сплёвывая на крыши домов, зубы.
У Веры, моей одногрупницы, девчонки хоть и противной, но всё же нормальной, снесло часть головы, включая глаза. Вера громко орала во всё горло: «Пока мы вместе, мы сила!» «Долой коррупцию и наркоманию!» «Влад спасёт Россию!»
Передо мной легло огромное щупальце. Я увидела Ладу. Её глаза были полны страха. Пренебрежение, жалость и ответный страх вспыхнули во мне одновременно.
– Вытащи меня, – крикнула Лада.
– Я не могу. Гидра меня размажет, – ответила я.
– Вытащи. Пожалуйста, вытащи!
Я не заставляла её идти в Гидру. Я тоже человек и боюсь, чтоб меня хрясь, и не стало. Я люблю Ладу, но себя люблю больше. Да и вообще. Она кинула на меня Башню, и я её не сохранила. Пусть выпутывается сама.
– Я боюсь, я не могу…
Тогда Лада стала, что есть сил, биться в этом пластилиново-глинянном чудовище. Она была прилеплена только левым боком, поэтому пара конвульсий и удалось оторвать всё, кроме руки.
– Ты с ума сходишь, она тебя съест, – закричала Вита, которая находилась чуть поодаль.
Я подбежала к ней.
– Вита, ты тоже выходи. Её надо разрушить, – крикнула я.
– Её нельзя разрушить! Я жду двойню. Я не сумасшедшая!
– Вита, Владивостока почти не осталось. Ещё месяц, и мы все сдохнем из-за вас! Вы, суки, все в Гидре, поэтому она творит, что хочет!
– А ты не в Гидре чисто случайно. Поэтому заткнись. Я не собираюсь выходить.
– Фрида, помоги мне, я хочу выйти, – ещё раз закричала Лада.
– Да не могу я Вам помочь, отстаньте от меня!
На площади собралось много народу. Все поддерживали Ладу и требовали, чтобы её примеру следовали остальные. Но никто – ни один не протянул ей руку. Все боялись. Помочь Ладе означало подписать себе приговор. Тогда Лада перегрызла свою руку и, наконец, высвободилась. Вся в слезах она очутилась на асфальте. На глазах почти у всего города. Она держалась за правое плечо и стонала. Кровь хлестала ручьём. К ней, по-прежнему, никто не подходил.
Тогда Лада нашла в себе силы, встала и шатающейся походкой побрела к сцене. Забралась на неё и закричала:
– Я вышла из этого говна! Потому что в ней одна неправда! И вступила, только потому, что на меня пытались завести уголовное дело!
Все хлопали. Все, не только те, кто собрался на площади, но и те, кто остались там. Голова Гидры повернулась в её сторону:
– Это социальная шизофрения. Вы представляете угрозу для общества. И должны быть немедленно казнены, – закричала пасть, состоящая из сотен тел, когда-то называвшихся людьми.
– Нет такой болезни социальная шизофрения, – отпарировала Лада.
Но поздно. Гидра уже сжала щупальце, подняла его до небес и со всей силы опустила на Ладу. Когда она убрала щупальце, мы увидели, что Лады нет, как будто и не было. С ней произошло то же, что произошло бы с мухой, по которой проехал трактор. Её размазало в такой мелкий порошок, что не осталось даже останков. Гидра громогласно рассмеялась. Я почувствовала, как волна ненависти и гнева всколыхнулась в каждом сердце. Эта волна выжгла воздух, заставила светиться глаза, раскалила площадь, но никто… Ни из нас, ни из них, не проронил ни слова.
«Почему я не протянула ей руку?» – вдруг больно шевельнулось где-то в области сердца. «Я должна была взять её за руку, и мы бы убежали. Если бы я помогла ей, она бы не умерла». Холод побежал по позвоночнику. Лада, такая добрая, такая смелая… Она вела меня в Башню под руку. Она умела то, что в этом городе не может никто. Она научила меня работать. Она умерла в таких страшных муках! Она одна с оторванной рукой стояла напротив твари, которая величиною с тысячу небоскрёбов. В последнюю свою минуту она видела, что надеяться не на кого, что она обречена. В последний миг своей жизни она видела огромный кулак, который впечатывает её в землю. Боже, как же ей было страшно! Как я смела не подать ей руки?
– Фрида, – услышала я за спиной. Обернулась. Это был Колотун.
– Ты Амо ждёшь? Его не будет.
– Он обещал.
– Он сказал, что тебя самой не будет.
– Я здесь.
– Я вижу.
Меня всегда бесило в нём то, что он может вот так вилять и съезжать с темы, когда надо говорить в лоб.
– Колотун, что с Амо? Почему он не пришёл?
– А он мог прийти? Разве от него это зависит?
– Где он? Я хочу его видеть.
– На другом конце города. Он просил передать, что не получилось.
– Да у него и сразу не получилось.
– Нет, он попытался. Он пытался отлепиться, но это невозможно. Он потерял бы ноги. Он не выйдет из Гидры.
– А ты?
– А я и не собираюсь. Гидра не так плоха, как тебе кажется. В ней лучше, чем вам.
– Да чем это лучше? Вы пожираете друг друга сами.
– Зато голова не болит, что положить в рот.
– Чей-нибудь член, например…
Колотун засмеялся и крикнул:
– Народ, она нас вротобранами назвала!
Гидра обратила на меня свой взор. В любое другое время меня бы распирала гордость, но сейчас сердце бешено стучало в груди. Мне казалось, мой, едва тлеющий огонёк, погаснет сам собой, так жутко было.
– Это она из зависти. Она хочет быть с нами, – крикнула Вита, – она не собиралась нас оскорблять. Жаль, что такому человеку не нашлось места…
Голова Гидры сделала умилённую физиономию.
– Конечно. Каждый хочет быть в Гидре. И мы, конечно, всем рады.
Вита правильно сказала. Я не оказалась в Гидре случайно. Никакого выбора. В тот момент не получилось, в тот момент не предлагали, в тот момент не захотела, да и не звали. Настоящий выбор встал передо мной именно сейчас. Сдохнуть на месте или сдохнуть чуть попозже, но со всеми. И я бы, естественно, сделала этот очевидный выбор. Ибо любому кажется более привлекательным сдохнуть попозже, а не прямо сейчас, ибо кажется, что попозже за тебя будет умирать какой-то другой человек, который будет жить в прошлом. А прямо сейчас умираешь конкретно ты.
Но я настолько боялась этого существа! Для меня прикоснуться к Гидре – это всё равно, что прикоснуться к огромному пауку. Брр… Ненавижу пауков. Поэтому я оставила себе шанс. Я побежала.







