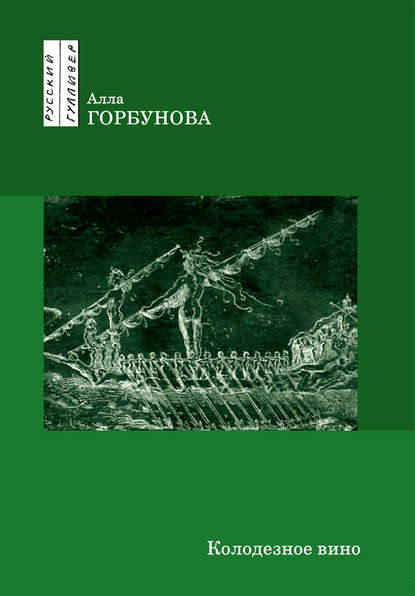- Рейтинг Литрес:3.7
- Рейтинг Livelib:3.5
Полная версия:
Алла Глебовна Горбунова Конец света, моя любовь
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Алла Горбунова
Конец света, моя любовь
Доброжелательный ангел
При чтении книги Аллы Горбуновой «Конец света, моя любовь» довольно быстро возникает ощущение, что эту книгу написал не человек. Нет, не нужно считать меня сумасшедшим, я прекрасно понимаю, что книгу написала вполне реальная Алла Горбунова, тем более что я ее давно знаю лично. Но ощущение нечеловечности, нечеловеческого происхождения этого текста не покидает. И поневоле начинаешь думать: кто бы мог написать эту книгу? Я думал, думал и в какой-то момент понял: этот текст мог бы написать доброжелательный ангел. Да, именно доброжелательный. Как известно, ангелы бывают разными, не только доброжелательными, но и, например, грозными (достаточно вспомнить слова из православного Покаянного канона: «ангели бо грознии пóймут тя»). А эта книга (вернее, некоторые ее части) словно бы написана доброжелательным ангелом.
Попробую пояснить это сложное ощущение. В книге описываются довольно страшные или очень страшные вещи. Насилие, жизнь городского и пригородного дна, смерть в самом ее неприглядном виде (бывает ли приглядный? наверное, бывает), беспорядочное употребление разных диких веществ, стремительные нравственные и социальные падения, психические надломы, проблемная до катастрофы юность. Но все эти вещи описываются с какой-то удивительной, беспрецедентной интонацией. Нет, это не о(т)странение, не попытки изобразить равнодушие (этого вообще даже близко нет), не циничное уравнивание всего и вся, не попытки заслониться смехом от ужаса жизни. Это что-то совершенно другое. Я бы назвал это спокойным участливым приятием. Да, было и случилось это и вот это. Да, это ужасно. Да, это не имеет никакого объяснения и оправдания. Да, эти люди не хорошие и не плохие, а скорее все-таки хорошие, каждый как-то по-своему. Да, это вот такой причудливый, страшный и прекрасный мир. И пусть было так, ну что же делать. Так было, и ничего в этом не изменить. Ровный, спокойный, но не безразличный голос, ровно и светло описывающий собственные страдания и страдания любимых людей. Да, так было, так есть и так, наверное, будет. Аминь.
Надо сказать, сочетание вот этой небесно-легкой интонации и описываемых реалий производит совершенно душераздирающее впечатление. Это очень тяжело, и одновременно очень отрадно читать. Здесь очень много такого, от чего, извините за пафос, немного теряешь веру в человечество, и очень много любви – такой, знаете, спокойной, тихой, ангельской. И совершенно не хочется додумывать и тем более выяснять, были ли все эти обстоятельства в реальной жизни автора, или не были. Может, и были. Или нет. Какая разница.
До дрожи, до мысленных судорог потрясла маленькая зеленая балеринка, танцующая на одной ноге, как личный символ безумия. И еще надо сказать вот о чем. «Он лежал рядом с лотками в отключке, в мокрых от мочи штанах, а я смотрела на него и понимала, что он не похож ни на кого из тех, кого я знала до сих пор… Мальчишки называли Вилли бомжом и смеялись нам вслед, когда он, в обмоченных штанах, и я, вызывающе накрашенная, на каблуках, шли по поселку рука об руку» – обратите внимание на этот фрагмент, в самом начале книги. Я не могу припомнить более пронзительных слов о любви.
Дмитрий ДаниловI. ПРОТИВ ЗАКОНА
Конец света, моя любовь
В детстве я больше всего боялась конца света. Вообще боялась перемен. Мне интуитивно казалось, что перемены могут быть преимущественно к худшему, а к лучшему – вряд ли. Меня окружали хорошие объекты, и мне было хорошо среди них. Утром солнце проникало в окна спальни, выходящие на восток, и подсвечивало оранжевые шторы. Это было хорошее солнце и хорошие шторы. Хороший дедушка показывал мне хорошие звезды в вечернем небе, а весной – как распускаются листья, как вы догадываетесь, тоже хорошие. Летом на даче я просыпалась в полной радостного ожидания беззаботности, когда ко мне с неизбывной колодой карт в кармане приходила подружка Надька. Уже тогда было понятно, что лучше никогда не вырастать. «Когда-нибудь ты поймешь, что счастье – это ожидание», – как-то сказал мой отец.
Кто-то из знакомых взрослых сказал, что у детей бывает такой комплекс, который заключается в страхе перемен и желании, чтобы все оставалось как есть. У меня этот комплекс точно был. А конец света был воплощением самой страшной перемены. Кроме того, были ужасные факты космического характера. Дедушка рассказал мне, что такое энтропия, и я поняла, что хаос неконтролируемо возрастает и Вселенная идет к своей смерти. А в школе нам показали фильм, в котором рассказывалось про грядущую смерть Солнца. Показывали смоделированные кадры, как оно сначала станет огромным и красным, потом части его станут падать на Землю, и она будет гореть огнем, а потом Солнце умрет совсем. После того, как фильм закончился, я для верности подошла к учительнице и спросила: «Любовь Михайловна, а когда Солнце умрет?» Любовь Михайловна, кажется, не знала и спросила у другой учительницы, которая сказала, что еще очень нескоро, через миллионы лет, и мне стало немного спокойнее от этой временной отсрочки.
Была у меня и еще одна временная отсрочка, правда, не такая долгая. Еще в самом раннем детстве я услышала о предсказании Нострадамуса, согласно которому конец света должен наступить в 1999 году от звезды Немезиды, что означает месть, называли точную дату – 11 августа. И я считала годы: в девяностом году я говорила себе: «Это еще не скоро, целых девять лет», в девяносто втором: «Еще целых семь лет», и т.д. Как-то, в очередной раз кем-то напуганная, я спросила у дедушки, что он думает по поводу предсказания Нострадамуса, и он ответил, что все будет, как Господу Богу угодно.
Еще одним вариантом конца света было второе пришествие. В самом раннем детстве я спросила маму, есть ли Бог, и мама ответила, что нет. Потом прошло еще немного времени, и я снова спросила маму, есть ли Бог, и мама ответила, что да, потому что за это время она уверовала. Во время перестройки появилось много ранее отсутствовавшей на прилавках литературы, мама стала читать разную эзотерику и в результате всего этого чтения пришла к выводу, что Бог все-таки есть. Ну есть – значит, есть. Тогда я тоже уверовала. Однажды мы с мамой гуляли по проспекту, в сторону запада, около районной библиотеки, и садилось солнце, все небо было залито сияющим пунцово-золотым светом, и мама сказала: «Кажется, как будто сейчас, в этих облаках, явится Христос во славе». В общем, все шло к тому, что конец света будет вот-вот. Он назревал буквально со всех сторон.
Летом на даче Санек стал обучать меня и моих подружек магии. У нас с Саньком была любовь. Он сказал, что конец света будет в следующем, двухтысячном году, и будет последняя война. На эту войну мы собирались все вместе: мы с Саньком, Юрик, Надя и Нюта. Позже я узнáю, что русские люди чаяли конец света и последнюю войну не одну сотню лет – в самых разных, диких и стремных сектантских чаяниях. Было это и у нас, детей девяностых. Эта война, на которую мы собирались, почему-то была войной в Афгане, которая на самом деле не кончилась. И одновременно это должна была быть война, знаменующая начало нового мира, в котором Земля сольется с другой планетой, своим магическим двойником, на котором живут драконы, эльфы и гномы. И одновременно это должна была быть последняя битва Армагеддона. Все мы готовились уйти на эту войну по-настоящему и умереть на ней, Саня уже заказал для нашей группы специальную милитари-форму. Саня вообще очень хотел в армию, но его не взяли, потому что он стал рассказывать комиссии про свои занятия магией, ему не поверили и сказали «сделай что-нибудь», он сделал, что у одной из женщин в комиссии заболела голова, но ему все равно не поверили и поставили диагноз «шизофрения». Бабушка с дедушкой не знали, что я уйду на войну и умру, я не могла им про это сказать, но мне было их очень жаль, и было жаль все хорошие, родные и любимые вещи. Я стала смотреть на них как на уже навеки утраченные: вот он, мой хороший умывальник, мои хорошие кусты спиреи, мой хороший дедушка, который смотрит телевизор, и мой хороший кот, который вышел поваляться на солнце. Каждый прожитый день стал для меня последним днем дома перед войной.
Мне было тринадцать, и это было хорошее лето. Мы с Саней гуляли в лесу и один раз случайно сели на муравейник, катались на его стареньком мотоцикле, и я сожгла платформы своих ботинок, поставив ноги на трубы, сидели вечером в корнях огромного древнего дуба и пили вино «Черный монах», Саня приезжал ко мне после работы (летом он работал в поселке водопроводчиком), и прятался у меня за печкой от разыскивавших его приятелей Гапона и Мастера, про которых ходила шутка, что они перепили тормозной жидкости, и, ревнуя меня, ездил со мной в гости к долговязому Андрею. Это было прекрасное лето в ожидании войны и конца света.
Потом я уехала в город, в школу, в восьмой класс, а Саня обещал приехать через месяц и позвонить, но время шло – и он не появлялся, и уже в конце октября выяснилось, что он давно уже в городе, меня, оказывается, бросил и встречался с Нютой, но Нюту он уже тоже наполовину бросил, и теперь он вместе с Натой, школьной подругой Нади. Таков был конец моей первой любви и странной незабываемой сказки, и еще – конец детства и конец света.
Я стала много гулять одна, прогуливала школу, писала стихи, и меня очень удивляло, что все в мире идет по-прежнему. До самой весны я ждала, что начнется война. Я начала встречаться с Юриком, который официально был парнем Нади, чтобы быть в компании – чтобы меня тоже взяли на войну. Юрик рассказал мне, что все мы в прошлой жизни воевали в Афгане и там погибли: я была военной летчицей и разбилась на самолете, Надька была сестрой милосердия, Нюта – снайпером, и в живых не остался никто. Мой привычный, детский мир продолжал таять: я смотрела на маленькую кухоньку с красно-синим линолеумом, сидя в которой я разговаривала по телефону с Юриком, и на расписных петухов на деревянных досках, и на старую электроплиту «Лысьва», и думала о бабушке с дедушкой, которые, сидя в соседней комнате, переживали из-за этих Юриных звонков, и думала о всей своей умирающей на глазах прошлой жизни, и как мы с мамой ездили в Сочи, когда мне было десять лет, и как у меня когда-то жила гусеница, которую я кормила лепестками шиповника. Все вещи вокруг были чудовищно беззащитны, они таяли и взывали ко мне, но я должна была принять, что убью их своим уходом на войну, уже убила, потому что приняла решение. Это было страшное отчаяние, потому что решение было настоящим, и в этом было предельное напряжение души. Той осенью и зимой я со всем прощалась. Я бродила у замерзших рек, черных деревьев, ездила без цели на метро, побывала на вокзале, с которого мы обычно уезжали на дачу, и гуляла по платформам, несколько раз приезжала в район высотных домов около залива, где я прожила первые три года своей жизни, с тем чтобы сброситься с крыши одного из этих домов, но либо ход на крышу был закрыт, либо не удавалось даже проникнуть в парадную, либо мне переставало этого хотеться. По ночам я слушала в наушниках радио, рок-музыку и писала стихи; что-то новое вылуплялось внутри, раздирая сердце, и никак не могло вылупиться так, чтобы уже совсем. В индустриальных районах среди бетонных заборов я гуляла впотьмах и надеялась, что меня изнасилует и зарежет какой-нибудь пьяница. Тогда же я стала выпивать по бутылке-другой «Балтики 9» в день.
Наступила весна, и никто не пошел на войну, сказали, что она перенеслась, что ли, или что-то еще. Потом Надя рассталась с Юриком, Саня расстался с Натой, постепенно все перестали общаться, Ната, которую я успела пару раз увидеть, стала работать торговкой на рынке и жить со своими чередующимися парнями, Надя после девятого класса пошла учиться на модельера-конструктора, работала в фотоателье, потом бухгалтером, крестилась, долго жила с гражданским мужем, потом вышла замуж за другого парня и родила сына, Нюта вначале брилась налысо, бросила медучилище, тусовалась в разных местах города и разных компаниях, ездила автостопом по стране и умудрилась заработать диагноз «синдром бродяжничества», но рано, лет в восемнадцать, вышла замуж, родила ребенка, потом развелась и работает хирургической медсестрой, Юрик несколько раз разводился, бросил пить по здоровью и работает сборщиком мебели, Санек тоже женился и разводился, тоже где-то работает, да и бог с ним со всем, но я до сих пор помню, как мы лежали в сосновом бору, взявшись за руки, и нас связывало столь многое, что и сейчас для меня это все еще относится к тому, о чем невозможно говорить. Ведь все мы, а было нам от тринадцати до девятнадцати лет, умерли на той войне, которая так и не наступила.
Я перестала бояться конца света. Я его полюбила. Я узнала его повадки: когда он приходит – он очень быстро проходит мимо, а тебе только и остается, как что-то бессвязное кричать ему вслед, а когда его нет – одни его боятся, другие чают и думают, что, когда он придет – смогут удержаться в нем вечно, а потом обнаруживают себя с бутылкой пива перед телевизором. Он наступает и не наступает одновременно. И с удивлением видишь, как целому миру приходит крах, но при этом – самое страшное: все остается по-прежнему. Те же деревья, улицы, дома, люди. И детский ужас, что настанет конец света, – всего лишь шутка, когда понимаешь, что конца света уже не будет никогда, и никто не отомкнет хрустальный ларчик мира в его невыносимой вечности. Всю свою маленькую жизнь я пыталась защитить мир, спасти его, не дать ему раствориться, как облаку и морской пене, но мир обманул меня и оказался твердым, совсем твердым.
Когда-то мой отец сказал: «Счастье – это ожидание». На что я добавлю: счастье – это ожидание конца света. Теперь я знаю, что конец света – это предел и размыкание, исполнение и чудо, и задача его, как задача любого предела, одновременно быть и не быть, случиться, чтобы ты отдал себя ему и погиб, и не наступить никогда, и любого иного было бы слишком мало. Он не вовне, но в самой сердцевине опыта мира, и «Апокалипсис» только одно из имен его, ведь он такой же конец света, как и его начало. Я хочу жить в его сердце. Я продолжаю учиться любить его. Узнавать его под разными, новыми именами и с новыми людьми, не опаздывать к нему, упорным трудом расширять его на пространство жизни. И как бы ни давила твердость мира, и как бы по-разному мы, юные маги того лета, ни умирали, нам, по крайней мере мне, теперь всегда как будто чуть-чуть скучно в мире, потому что с тех пор, как прекратились потопы, пришла скука, и «Королева, Колдунья, которая раздувает горящие угли в сосуде из глины, никогда не захочет нам рассказать, что знает она и что нам неизвестно».
Рынок
Лето после восьмого класса я провела, бухая на лотках на рынке. Каждый раз, когда я, спустя годы, захожу на наш сельский рынок и покупаю фрукты и овощи в ларьках, мясо и ягоды на лотках, я понимаю, что нахожусь в одном из мест на свете, где я была когда-то абсолютно счастлива. Особенно остро я это чувствую, если мне доводится идти вечером мимо уже не работающего рынка, и я слышу голоса молодежи, смех, матерщину, пение под гитару, рев мотоциклов и мопедов, выезжающих из ворот рынка, и знаю, что на этих мотоциклах и мопедах катаются молодые парни и катают своих девушек, что они выпивают и целуются, сидя на лотках, играют в карты и, должно быть, сами не осознают, как они счастливы.
В мое время, так же, как и сейчас, подростки тусовались по вечерам на рынке. Это удобное место, в самом центре поселка. Только раньше лотки были расположены по-другому, на них расплескивались молоко и пиво, капала свиная кровь. Огромные свиные зажмуренные головы лежали на прилавках, а в центре рынка, между расположенными по периметру рядами лотков, стоял ангар, где продавались хозтовары. В нем жили летучие мыши. Потом ангар сгорел – говорили, что его подожгла местная мафия. Сразу за рынком был желтый деревянный дом правления, он тоже сгорел, вероятно, по той же самой причине. Рядом с ними останавливалась по утрам молочная бочка, приезжавшая из ближайшего поселка городского типа. На площади по сей день стоит центральный магазин, а за забором находится место, где продают газовые баллоны. На сосну прибита ржавая табличка с надписью «Посторонним вход запрещен», а когда ворота открыты, можно увидеть площадку, гравий, старый трактор и несколько припаркованных грузовиков, ангар, ржавые баки, какую-то непонятно для чего оставленную огромную катушку, дощатые постройки, гаражи, кучу бревен. У главного входа на рынок – несколько ларьков. В то время я знала всех, кто в них работал: пожилую синеглазую тетю Любу, двадцатисемилетнюю миловидную Наташу, жизнерадостную смуглую Алию.
Дочь тети Любы три раза насиловали, а потом она вышла замуж за богатого. Он давал ей много карманных денег, она села на иглу и стала их все тратить на наркотики, а потом умерла. У Наташи тоже была дочка, маленькая девочка, и Наташа сама шила ей красивые платья. Еще у нее был муж и любовник. Мужа мы никогда не видели, а любовником был местный мужик, Иван. Он был контужен на войне и, когда выпивал, иногда в голове у него что-то перемыкало и он становился сам не свой, кидался на людей и мог убить. Днем Иван все время был на рынке по каким-то неизвестным нам делам, а по вечерам крутил с Наташей. Ее муж по вечерам выслеживал в кустах у рынка Наташу с Иваном, один раз выскочил и устроил драку, а дома избил Наташу, и она после ходила на работу с фингалом. Алия была молодая, веселая, строила глазки парням и хихикала с нами.
Рынок жил своей жизнью, недоступной глазам случайных посетителей. По утрам в выходные дни лотки были заняты бесконечными творогами и сметанами, шмотками и висюльками, а во второй половине лета – грибами и ягодами, собранными старушками в лесу. Начиная с середины дня, ларьки пустели; до вечера оставались только Борода и тетя Паня, продавщица всяких мелких товаров: сухариков, шоколадок, жевательных резинок. С рынка она уходила вечером, волоча тележку, в своих неизменных рейтузах. Иногда к ней приходила и сидела с ней ее старуха-мать. Борода был странным, мутным мужиком, ничего о себе не рассказывал и только намекал, что он какой-то важный мафиози на пенсии, все здесь решает и знает каких-то очень серьезных людей, воров в законе. Он постоянно говорил о своем сексе с малолетними проститутками, которых очень любил, и порывался организовать бизнес – продавать местных малолеток для сексуальных услуг, в первую очередь имея в виду нас с подругой и неоднократно нам это предлагая. На рынке он продавал, а кому и наливал просто так, бодяжную водку. У него был сын, парнишка лет одиннадцати-двенадцати. Когда он подрос, через несколько лет Борода рассказывал мне, что теперь они ходят к проституткам вместе.
Местные шлюхи тоже иногда показывались на рынке; это были некрасивые пьющие девушки, нищие и несчастные, заразные и беззубые. Иногда с ними трахались местные полубичующие мужики, которые постоянно ошивались на рынке в поисках рабочей халтуры и выпивки. Обычно они стояли рядом с точкой Бороды, и он наливал им свою бодягу. Среди них был Букаха, длинный и худой, как жердь, одетый в обноски, с земляным цветом кожи. Длинные серые волосы клочьями свисали по краям его вечно пьяного лица, а в середине головы была лысина. Напившись, он любил говорить что-то похабное нам с подругой. Учкудук, старик с монголоидной внешностью, слыл спившимся профессором. Он был безобиден: заваливался, пьяный, где-то у забора и улыбался, что-то бормоча себе под нос. Дедушка Ау появлялся реже; он был похож на алкоголика-лешего, в облаке бороды и косматых седых волос, с пронзительными ясными глазами. Еще иногда показывался Рикша, который всегда ездил на своей «копейке». Сварливый, со склочным характером, он то грязно приставал к нам, то оскорблял, называя «шлюхами». Больше всех, по-морскому, матерился Иван Севастопольский, бывший моряк. Он служил под Севастополем и потому получил такое прозвище. Лицо у него было обветренное и бравое, а глаза, когда он выпивал, из серых становились водянисто-голубыми. Иногда на рынок заходил высокий толстый полулысый мужчина, говорили, что он еврей, который когда-то был большим ученым, и относились к нему со смесью насмешливой жалости и сочувственного уважения. Приходя на рынок, он неизменно снимал штаны и показывал задницу. Он не мог иначе, потому как давно сошел с ума. Иногда его специально подначивали: «Покажи задницу», он показывал, и тогда над ним смеялись и прогоняли его, а потом говорили: «Большой был человек».
Должно быть, самое странное, что в такой компании тусовались и мы с подругой. Мне было четырнадцать, ей пятнадцать. Утром мы уходили из дома и отправлялись на рынок, где проводили целые дни. Борода бесплатно угощал нас бодяжной водкой, мы сидели на лотках, играли в карты и общались с мужиками. Я была хрупкая и тоненькая, а подруга в меру пышная и полногрудая, и мужики неизменно высказывались, кто из нас им больше нравится: более утонченные натуры предпочитали меня, а другие, например, Рикша, говорили про меня, что «даже пощупать не за что», и явно отдавали предпочтение подруге. Мы все про всех знали: кто где халтурит, у кого сломался карбюратор, кому изменяет жена, кто вчера нажрался и как себя вел. Мы тоже были почти все время пьяные или слегка подшофе, и я регулярно валялась в местных канавах. Мы до вульгарности ярко красились и вызывающе одевались. «Нормальная» молодежь сторонилась нас, многие думали, что мы шлюхи, один парень лет двадцати как-то подошел ко мне и спросил: «А правда, что ты нимфоманка?» В действительности я была девственницей и трудным подростком, девочкой со взглядом откровенней, чем сталь клинка; меня воспитывали бабушка с дедушкой, бабушка была очень строгая и до последнего держала меня под жестким колпаком. Система запретов в моей семье доходила до абсурда: мне долго не разрешали летом гулять по вечерам, а когда разрешили – срок моего вечернего гуляния сокращали по мере все более раннего срока захода солнца, а в городе не разрешали гулять позже четырех дня и не выпускали из дому больше, чем на час, и, если я шла по проспекту, бабушка, стоя на табуретке, следила за мной из окна кухни, но так же она следила и за моей сорокалетней матерью и моим тридцатилетним дядей. Меня постоянно пугали маньяками, незнакомцами в машинах, которые затаскивают туда девочек, не разрешали одной заходить в парадную; мне тыкали в нос золотыми и серебряными медалями предков, красными дипломами и учеными степенями. Предполагалось, что есть некий «путь» человека: школа, институт, возможно, аспирантура, обзавдение семьей, рождение ребенка, работа в коллективе, на которую нужно ходить каждый день, кроме выходных и отпуска и, наконец, пенсия, ну а там и помирать пора. Я не хотела так жить. Все меня любили и хотели, как лучше, да вот беда – я и впрямь была какая-то не такая. И тогда, летом двухтысячного года, проявлением моего бунта была вся эта история с рынком. В конце концов, мы с подругой так познавали мир. Поэтически познавали. И рынок был похож на прекрасную балладу, тончайшую и жесточайшую поэзию особого мира «сильных связей», где действуют пьяницы, бандиты, шлюхи – и во всем этом для меня была какая-то полная очарования «настоящая», оголенная жизнь.
Я была влюблена тогда в алкоголика и бомжа, взрослого двадцативосьмилетнего мужчину, ровно в два раза меня старше. Меня привлекало чувство дикой, необузданной свободы, которое я испытывала, когда была рядом с ним. Я хотела спасти его. У него была широкая и счастливая улыбка, и, может быть, благодаря ей он был чем-то похож на американца; он носил длинные волосы, и на плече у него была грубо набитая татуировка с волком. Мы называли его Вилли. Вилли жил в контейнере на помойке, у него было восемь классов образования. Жилье в городе он потерял в каких-то махинациях девяностых; его мать и дядя жили в сельском доме с многоярусным садом, но его оттуда выгнали – он не поладил с дядей из-за своего пьянства: дядя презирал его как лентяя и иждивенца. Он работал с пятнадцати лет и сменил десятки профессий, как герои американской литературы определенного типа: был и слесарем, и токарем-инструментальщиком, и курьером, и водителем, и торговцем рыбой, и бутлегером – подпольным торговцем водкой во времена антиалкогольной кампании при Горбачеве, и успешным распространителем косметики, и даже киллером, как он признался мне, будучи пьяным, – он сказал, что убивал только плохих людей, конченых негодяев, и всегда, когда ему поступал заказ, он вначале узнавал все о человеке, которого заказали, наблюдал за ним и только потом соглашался или отказывался, но потом он раскаялся и выбросил пистолет в реку, ездил в монастырь, просил прощения у Бога, поселился в сельской местности и запил. Вилли был самоучкой с широкими и разбросанными знаниями; он был убежден, что система образования призвана стандартизировать людей и делать их приемлемыми для общества, а все, чему человек действительно учится, – он узнает сам. Он не любил людей, считал себя аристократом и гением, любил природу и грозу, и Эриха Марию Ремарка, был три раза женат и имел семилетнюю дочь от первой жены. Вилли умел путешествовать по измерениям, но за ним там охотились, и он проваливался в страшные нижние миры и просил меня о помощи. Верхние миры, в которых он бывал, выглядели как прекрасные неземные города, и он описывал их мне, когда мы в грозу сидели на лотках и целовались. Его отец тоже страдал пристрастием к выпивке и работал когда-то помощником капитана дальнего плавания, он любил женщин и однажды уплыл к одной из них навсегда, оставив жену и сына. Предки Вилли были дворянских кровей и на старых фотографиях стояли рядом с членами царской фамилии. Самый счастливый период жизни Вилли относился ко времени, когда он устроился в фирму по торговле косметикой, соблазнил красивую сотрудницу, увел ее из семьи и они вместе организовали свой собственный бизнес. Молодой, энергичный Вилли заговаривал покупателям зубы и обольщал покупательниц, разъезжая с косметикой по области на своей машине. Дела шли в гору, Вилли завел редких аквариумных рыбок, купил телескоп, чтобы созерцать звезды, и увлекся астрономией, но жена ушла к другому, он запил, все потерял и стал жить с матерью в поселке. Ни у кого из мужиков на рынке не было таких золотых рук и такой светлой головы, как у Вилли: он мог по звуку определить, что неисправно в двигателе.