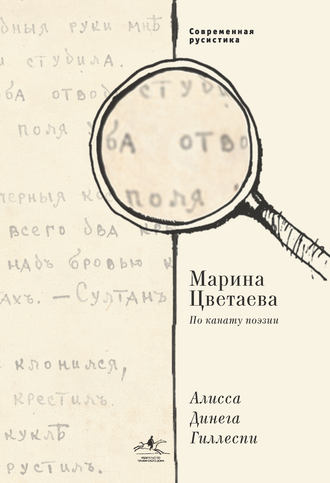
Алиса Динега Гиллеспи
Марина Цветаева. По канату поэзии
Предисловие к американскому изданию
Моя встреча с Мариной Цветаевой произошла десять лет назад[15], когда, будучи недавней выпускницей университета, я полгода находилась в Москве, совершенно не представляя себе, кем хочу «стать», когда придется покинуть это по-своему сказочное, как бы нереальное советское пространство. Прекрасно помню, как произошла эта встреча: сидя в гостях в обшарпанной комнате общежития МГУ, я заглянула в книгу, предложенную мне моим другом. Пусть в комнате царил промозглый зимний полумрак, освещаемый лишь слабой лампочкой, пусть мой русский язык еще хромал, а плотно набранные кириллические буквы плясали в глазах, отказываясь сразу складываться в осмысленные слова, но стихотворение Цветаевой «Цыганская страсть разлуки!..» поразило меня мгновенно – своей прямотой, смелостью, точностью и музыкой. Как будто молния осветила убогую комнатушку и, если воспользоваться образом Цветаевой (заимствованным ею у Маяковского), моя душа вспыхнула: это был пожар души, пожар сердца.
Впрочем, возможно, все происходило не совсем так, и эта картина существует только в моей памяти. Как бы то ни было, с тех пор Цветаева от меня не отступала, наподобие хронической лихорадки. Первое ее стихотворение, которое я прочла тем вечером, предвосхитило неожиданно многое:
Цыганская страсть разлуки! —
Чуть встретишь – уж рвешься прочь!
Я лоб уронила в руки,
И думаю, глядя в ночь:
Никто, в наших письмах роясь,
Не понял до глубины,
Как мы вероломны, то есть —
Как сами себе верны.
В этом стихотворении 1915 года содержится, в определенном смысле, зерно моей книги. В нем – суть поэтического мифа Цветаевой, который, меняясь с течением времени, оставался неизменным в своих базовых чертах: оксюморонная «страсть разлуки» и, как следствие, необходимость эпистолярного отказа от любви – отказа, в котором рождалось загадочное, неповторимое «я» поэта, подобно фениксу – из пепла сгоревших упований. Как мне кажется, эти мифопоэтические паттерны на протяжении всей творческой жизни Цветаевой составляли устойчивое основание ее творческого воображения. Стихотворение «Цыганская страсть разлуки!..» одновременно можно прочесть и как квинтэссенцию цветаевского поэтического ремесла: ее изысканно выверенные строфы, «телеграфный стиль», необычные рифмы и, поверх всего этого, ее неотразимый синкопированный ритм. Этот высокий уровень ремесла уравновешивает парадоксальность цветаевских страстей и опровергает представление о ней как о стихийном, необузданном романтике. Сама она считала одним из главных своих учителей в поэзии Державина; в поэтических формах Цветаевой действительно есть классицистическая строгость, а ее мифотворчество опирается на исключительно сложную и последовательную – хотя и в высшей степени своеобразную – строгость мысли.
Настоящая книга представляет собой исследование этих строгих паттернов мысли и формы, покорявших Цветаеву и высвобождавших ее поэтическое воображение. В самом деле, поэтическая деятельность Цветаевой, – которую, особенно в годы эмиграции (1922–1939), она воспринимала как освобождение от тягостной рутины домашнего быта, – удивительно напоминает духовное служение. Ее рабочая этика поражает и вдохновляет. Находясь временами в ужасающих условиях нищеты, с двумя маленькими детьми, с больным и слабовольным мужем, о котором приходилось заботиться, она каждый день вставала до рассвета, чтобы несколько часов, прежде чем проснутся домочадцы, писать. Таким образом ей удавалось на протяжении многих лет с поразительной регулярностью создавать один шедевр за другим. Как ни странно, Цветаева, вероятно, лучше себя чувствовала во внешне враждебных условиях. Сила ее темперамента заставляла ее охотно принимать вызовы жизни; Цветаева, как сама она однажды написала, отличалась «чудовищной выносливостью» (6: 153). В этой фразе удачно отразилось уникальное для Цветаевой соединение мужества и дерзкой напористости. Если ключ к ее поэтическому генезису – в сосуществовании двух противоположных стимулов, страсти и отказа, то ключ к ее поэтической силе – это казалось бы невозможное слияние неистовства и терпения.
Работая над этой книгой, я часто завидовала изумительной творческой энергии Цветаевой. Образ Цветаевой за письменным столом – локти будто вросли в деревянную плоскость, рука держит вес лба, пальцы отбивают ритм, перо бороздит бумагу, ее абсолютная погруженность в созвучия и сочетания слов – то и дело вставал перед моими глазами, когда я пыталась поддерживать в себе напряжение сосредоточенности и вдохновения, – как сама Цветаева ни на миг не отклонялась от своей поэтической цели. Однако осуществить это невозможно: поэтическая щедрость Цветаевой, ее полнейшая погруженность в свой поэтический мир, что бы ни происходило вокруг, не поддаются имитации. Я не смею претендовать и на то, что до конца смогла понять все богатство и сложность поэтического мышления Цветаевой, которое, как плод всякого истинно гениального сознания, неисчерпаемо. И все же надеюсь, что мне удалось в этой книге осветить очертания сложной – и, должна признать, порой труднодоступной – поэзии Цветаевой и сделать это по-новому, без оглядки на готовые мнения и теории. Если на страницах этой книги Цветаева вновь оживет для читателя во всей своей озадачивающей парадоксальности – моя цель достигнута.
Посвящаю моим сыновьям
Да разве единица (какая угодно) может дать сумму? Качество другое. Иное деление атомов. Сущее не может распасться на быть имеющее.
Марина Цветаева, письмо к Борису Пастернаку, 10 июля 1926 г.
В другом человеке мне принадлежит лоб и немного груди. От сердца отступаюсь легко, от груди – не отступлюсь. Мне нужен звучащий свод. Сердце звучит глухо.
Марина Цветаева, письмо к Райнеру Мария Рильке, 14 августа 1926 г.
Боюсь, что Одиночество
Есть Зодчий наших душ
Эмили Дикинсон, «Одиночество не смею услышать…»[16]
Введение
По канату поэзии
Что, голубчик, дрожат поджилки?
Все как надо: канат – носилки.
Разлетается в ладан сизый
Материнская антреприза.
«Ни кровинки в тебе здоровой…»(1919)
Там, на тугом канате,
Между картонных скал,
Ты ль это как лунатик
Приступом небо брал? <…>
Помню сухой и жуткий
Смех – из последних жил!
Только тогда – как будто —
Юбочку ты носил.
«Там, на тугом канате…» (1920)
Если б Орфей не сошел в Аид
Сам, а послал бы голос
Свой <…>
Эвридика бы по нему
Как по канату вышла…
«Есть счастливцы и счастливицы…» (1934)
Что значит для женщины быть великим поэтом, вдохновенным поэтом, трагическим поэтом, гениальным поэтом? Вопрос лишь кажется простым – многообразие возможных ответов далеко выходит за рамки гендерной проблематики и затрагивает поэтический язык, образную систему, форму, жанр, эстетику, мифопоэтику, метафизику, этику и так далее. Феминистская критика находит проблематичной саму категорию «гений»: эта категория восходит к мифологии романтизма, подразумевающей поэта-мужчину, и, следовательно, исключающей из литературного канона женщину[17]. Вопрос, конечно, не в том, может ли женщина быть замечательным писателем, – мифы о вдохновении мужчины-гения посещающей его женщиной-музой, или, по выражению Роберта Грейвза, «Белой Богиней», просто не предполагают того, что поэтом может быть женщина[18].
Впрочем, очевидная самопротиворечивость вопроса о женщине-гении не мешала пишущим женщинам вновь и вновь ставить его перед собой, напрямую или исподволь, как в поэзии, так и в загадочных «текстах» своей жизни. Я полагаю, что в русской литературной традиции именно Марина Цветаева задавалась этим вопросом наиболее отважно и впечатляюще. Ибо по сравнению с более кроткой Ахматовой – чей поэтический голос и лирический образ, несмотря на необычайную силу таланта и трагизм личной судьбы, в целом вписываются в культурный код «поэтессы»[19] – Цветаева решительно разорвала узкие рамки образа «поэтессы». Все, что она проживала и что писала, было непрекращающимся поиском убедительного разрешения загадки: как женщина может достичь чистого, внегендерного человеческого величия.
Для Цветаевой пол – понятие фундаментально негативное. Даже воспевая те или иные сильные стороны женской природы, она в принципе считает «женский пол» несоразмерным поэзии. Цветаева с самых ранних лет интуитивно ощущала эту определяющую ее личность априорную разлученность двух сущностей – женской и поэтической. Именно пол мешает примирить требования поэзии с требованиями жизни. Пол – центральный фактор в формуле ее существа, несократимый «х», предопределяющий, – как бы ни делились между собой жизнь и поэзия, – невозможность их соединения[20]. И при этом Цветаева не может выбрать одно ценой отказа от другого – ибо жизнь (даже мучительные попытки «жизни») – пища поэзии, а в лишенной поэзии жизни нечем дышать.
Именно этот мощный разлом составляет основной предмет моего исследования. Я прослеживаю те решения, которые находит Цветаева для выхода из тупиковой ситуации женщины-поэта. Причины (политические, социологические, культурные, психологические, историко-литературные, биологические, анатомические) этого разлома меня мало интересуют; я не собираюсь ни доказывать, ни опровергать его наличие – он есть, и определяет все, что Цветаева когда-либо думала, чувствовала, писала. С вопросом «почему?» я буду обращаться только к поэзии, ибо именно в таком аспекте данный вопрос интересовал саму Цветаеву. Можно сказать, что все многочисленные обращения к проблеме пола в творчестве Цветаевой представляют собой одновременно попытку дать описание причин расщепленного восприятия реальности и найти способы справиться с этой ситуацией. О том, что это дилемма прежде всего поэтическая, а не социальная, свидетельствует склонность Цветаевой многократно возвращаться к разработке того или иного аспекта этой проблемы в сериях или «кластерах» стихотворений, не всегда объединенных формально в поэтический цикл или сборник. Мой исследовательский подход мотивирован этим творческим методом Цветаевой: я рассматриваю группы текстов, сконцентрированных на общей теме или проблеме, и прослеживаю, как движется ее мысль по мере того, как в каждом следующем тексте она предлагает более или менее удовлетворительные варианты решения.
Цветаева не сомневается в реальности духовной сферы, – доступной через трансценденцию творческого устремления, – в которой без остатка растворяются различия пола и сама телесность. Кроме того, она безоговорочно отвергает эссенциалистскую точку зрения, которая по определению исключает женщину из всякого значимого человеческого дискурса, включая поэтическое мастерство и традицию. Но, с другой стороны, она никогда не забывает о том, что материал поэтического творчества берется из опыта реальной жизни, в которой, несомненно, существуют половые (физиологические) и гендерные (психосоциальные) различия. Поэтому в непосредственном физическом мире реальным женщинам, и ей в их числе, приходится преодолевать усвоенные ими ограничения, которые грозят закрыть доступ к трансцендентному, всечеловеческому иному миру. Исповедание сразу двух вер приводит в конечном счете к непреодолимой пропасти между сферой человеческого общения (где «исходная установка» должна ориентироваться на некие формы морали или этики) и воображаемого мира поэзии (где аналогичная «исходная установка» в большей степени определяется эстетикой, и возрастает опасность использования многозначности слов, включая значения, обратные их основному смыслу).
Отношение Цветаевой к проблеме пола определяет выбор ею рискованной роли канатоходца, танцующего над этой пропастью. Мотив хождения по канату, неоднократно возникающий в ее творчестве и всегда в явной связи с проблемой положения женщины-поэта, – яркая иллюстрация этой невероятной поэтической эквилибристики. Ее жизнь – отважное, иногда безрассудное, иногда вызывающее восторг хождение по канату поэзии, акт метафизического балансирования, чреватый серьезными последствиями, смертельно опасный. В своих стихах она ступает по тончайшей линии между трансгрессией и трансценденцией, между разрушением женского начала с обновлением человеческих и поэтических норм и достижением внегендерной высоты, которая, в конечном счете, оказывается неотличима от небытия. В своей поэзии Цветаева заняла новую, пьянящую и опасную, позицию маргинальности, которую невозможно воспринимать равнодушно: страсть, с какой судили о Цветаевой (восхищаясь или осуждая) критики, по интенсивности соотносима с той, что вкладывала в свои тексты сама Цветаева[21].
Я полагаю, что творчество Цветаевой провоцирует столь явный восторг или отторжение именно потому, что оно обнажает фундаментальные основы литературной традиции и, экстраполируя, – всех человеческих норм; оно «ставит проблему предвзятости, то есть гендерной дифференциации, касающейся всех видов знания. Оно заставляет признать существование гендерно обусловленных позиций, порождающих знание, интерпретирующих и использующих его»[22]. Но несмотря на недавнюю моду на Цветаеву у теоретиков литературы[23], этот значимый аспект ее поэтики часто остается без внимания, заслоняемый биографией, полной драматизма и вызывающей сильный эмоциональный отклик.
После гибели Цветаевой в 1941 году ее произведения на протяжении пятнадцати лет были в Советском Союзе практически под полным запретом. Ее поэтический голос почти забылся как на родине поэта, так и за ее пределами. Вполне естественно, что исследования, появившиеся на волне повторного открытия ее творчества в 1960–1970-е годы, были посвящены выяснению биографических и историко-литературных фактов[24]. Однако увлеченность ее судьбой и личностью не ослабевает со временем – напротив, даже в работах, специально посвященных поэзии Цветаевой, она рассматривается прежде всего как женщина и только потом как поэт. Критика ее наследия часто опирается на априорные представления о женском творчестве: утверждается, что в ее стихи «вписаны» образы женского тела; творчество Цветаевой преподносится как лирический дневник, непосредственное выражение ее личности и переживаний; ее самоубийство понимается как неизбежная реакция на тиранию мужских социолингвистических норм[25].
Задача настоящего исследования иная. Для меня Цветаева – в первую очередь поэт, являющийся женщиной, а не женщина, откровенно описывающая свои женские переживания[26]. Не навязывая ее текстам внешних критериев, я пытаюсь понять внутренний смысл и значение ее пола в мире ее поэзии. Меня интересует, какую роль играет пол в поэтическом осмыслении Цветаевой фундаментальных вопросов человеческого бытия, равно как и в ее непрестанном испытании оснований, возможностей и границ поэзии. Таким образом, хотя меня в первую очередь интересует то, как именно гендерная принадлежность Цветаевой «оставляет свои следы в литературных текстах и истории литературы»[27], основная задача настоящей книги – не обсуждение вопросов гендерной политики и не формулировка или отстаивание каких-то теоретических принципов. Главное и самое важное для меня – это специфика поэтического текста, общечеловечность которого не менее важна, чем принадлежность женщине.
Цветаеву раздражало, когда к ней относились как к «женскому поэту», «поэтессе», – с особой резкостью она пишет об этом в связи с «Вечером поэтесс», который был устроен поэтом Валерием Брюсовым: «Женского вопроса в творчестве нет: есть женские, на человеческий вопрос, ответы» (4: 38). Конечно, человеческое тело, и женское в особенности, служит Цветаевой богатым источником метафор. Поэзия даже преобразует собственное тело поэта в музыкальный инструмент: «Сердце: скорее оргáн, чем óрган» (4: 476)[28]. Для Цветаевой поэтический язык есть язык «по самой своей сути вне-реальный (fictive)»[29]. Преобразующей силой этого языка она стремится как бы нейтрализовать свой женский пол – однако при этом, парадоксальным образом, постоянно фокусируется на проблеме пола.
Итак, в центре настоящего исследования находится тема пола в творчестве Цветаевой в ее динамическом, зачастую непредсказуемом развертывании на протяжении всей творческой жизни автора. Поэтическая задача Цветаевой, как я ее понимаю, заключалась в том, чтобы вписать себя в ту литературную традицию, где для нее – женщины – не было места, вписать – посредством поэтической трансформации мифологических форм и структур этой традиции. Она не переписывает мужское письмо и не согласна довольствоваться его периферией. Ее преображение поэтического дискурса не подражательно, а оригинально. Работая со звуком, образом, этимологией, она взрывает изношенные, тесные поэтические конвенции. Эта ревизия поэтического языка оказывается возможной именно потому, что в ее понимании язык – и язык поэтический, в частности – по внутренней природе своей свободен от сексизма, фаллократии и патриархальности[30]. Но формы, которые приняла поэзия в ходе своего развития, исторически сфокусированы на мужчине лишь потому, что ее авторами, по преимуществу, были мужчины. Иначе говоря, мифологические системы, определяющие положение поэзии в ряду прочих интеллектуальных и творческих устремлений человека, конвенционально предполагают, что поэтом является мужчина. Однако этот диктат традиции не вечен. Используя традиционные темы и формы поэзии для собственных поэтических целей, Цветаева сознательно выявляет и затем безжалостно стирает их скрытую гендерную принадлежность.
Несмотря на весь неприкрытый трагизм личной судьбы Цветаевой, мы не вправе априорно утверждать, что вся ее деятельность закончилась крахом, – самый блеск и объем написанного ею не позволяет безоговорочно считать, что Цветаеву постигла неудача. Она никогда не соглашается на удобную позицию жертвы, ибо неизменно настаивает на полной своей свободе, что предполагает абсолютную личную ответственность за все, что с нею происходит в жизни (поэтому она никогда не винит в своих личных и поэтических горестях мужчин, социум, нищету, историю, фашизм, сталинизм и проч., даже когда объективные факты, казалось бы, свидетельствуют об обратном). С почти маниакальным упорством она настаивает на том, что только она одна – творец своей судьбы; это сильнейшее чувство личной ответственности – свидетельство огромной силы характера и масштаба творческой личности. В самом деле, напряжения и противоречия в ее творчестве составляют скорее его силу, чем слабость: совершенству и завершенности она неизменно предпочитает недосказанность, потенциальность[31]. Поэтому, говоря о ее поисках «разрешения» женской дилеммы, ударение следует делать на процессе, а не на объекте. Найди она все искомые ответы, ее стихи утратили бы импульс к движению. Даже самоубийство Цветаевой – не только чистая трагедия. Если взглянуть на него как на финальный поэтический акт, самоубийство окажется завершением ее поэтического пути – одновременно мучительным и блестящим последним аргументом в волновавшем ее всю жизнь диалектическом споре этики и эстетики. Хотя ее самоубийство может быть описано как окончательное исключение себя из мужского поэтического мира, в то же время именно уходя из жизни она вступает, наконец, в то абсолютное поэтическое пространство, где свободное парение души не сковано гендерными различиями.
Цветаевой нравилось вычитывать смерть поэта из его жизни, находя в смерти символическое продолжение поэтической личности. Смерть не только отбрасывает тень назад, на пройденный поэтом творческий путь, – происходит и обратное: стихи пишут жизнь. Мне близок ее подход; в моем исследовании, биографические события жизни самой Цветаевой – часто спорные и, в конечном счете, недоступные нам во всей полноте – берутся не как базовые эпистемы, а рассматриваются скорее как материал для ее творчества или его побочные продукты. Ее влюбленности и страстные романы, опыт материнства, бурный темперамент, тяжелый быт – и да, даже ее самоубийство – значимы для настоящего исследования лишь в той степени, в какой они оказали формирующее влияние на ее творчество или сами сформировались под его воздействием. Кто может дать окончательный ответ на вопрос, что чему служит – поэзия жизни или жизнь поэзии? Но это и не важно, поскольку меня интересуют не сами по себе события жизни Цветаевой, а та глубокая и убедительная поэтическая логика, с которой Цветаева к ним подходит. Истинное наследие поэта – это его стихи, а не биография, поэтому события жизни я буду читать через поэзию, так, как если бы поэтические интерпретации укладывались в формулу «правда, только правда и ничего, кроме правды».
Оценивать жизнь Цветаевой как триумф или как трагедию – это, в конце концов, дело личной склонности. В какой-то мере мое прочтение ее творчества говорит о том, что, вовлеченная своей «женскостью» в рискованную, требовавшую нарушения всех правил, игру, она неизбежно должна была прийти к отчаянию и саморазрушению. Но именно эти оковы сдерживали – и таким образом структурировали, направляли, порождали – ее поэзию. Попытки выработать поэтические стратегии против предполагаемых следствий ее гендерной принадлежности в области литературы составляют суть ее творчества, и Цветаева, размышляя над своим положением, мечется между жизнерадостным оптимизмом и беспросветным пессимизмом. Выражаясь метафорически, канат поэтической строки, по которому она ступает с такой отвагой, иногда запутывается, превращаясь в силки, но бывают моменты, когда он оказывается трапецией, на которой она виртуозно и волшебно взмывает в иные миры. Неизменно только одно – подобно акробату, она собрана, находчива, отдает себе полный отчет во всех своих действиях и полностью и всегда ответственна за свою судьбу: истинный герой, ищущий испытаний, чтобы, преодолевая их, преобразиться.



