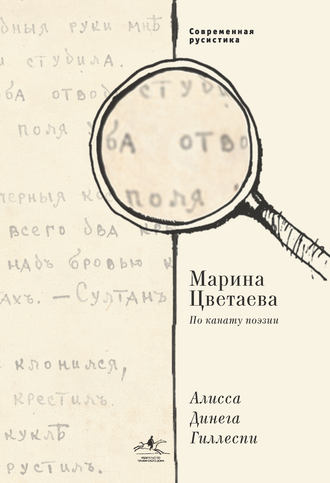
Алиса Динега Гиллеспи
Марина Цветаева. По канату поэзии
© 2001 by the Board of Regents of the University of Wisconsin System. All rights reserved. Rights inquiries should be directed to the University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, USA, to Rights@uwpress.wisc.edu.
© М. Э. Маликова, перевод, 2015
© Издательство Пушкинского Дома, 2015
© Издательство «Нестор-История», 2015
* * *
Предисловие к русскому изданию
В старом платье я – я: Человек! Душа! Вдохновение! – в новом – женщина. Потому и не ношу.
Non une femme, – une âme![1]
(Я – о себе.)
Марина Цветаева. Записные книжки.
Для Марины Цветаевой с юности до безвременной смерти местом обитания поэзии была душа, и этой душе, чтобы вочеловечиться, необходимо было вырваться из границ женского пола, предписываемых Цветаевой той культурой, в которой она выросла, и слишком хорошо ей известных на собственной шкуре. В традиционном мифе обретения поэтического вдохновения, расцветшем в эпоху романтизма как в России, так и на Западе, поэт определялся как существо мужского пола, а его муза – равно земная и эфирная – как женщина. Архетипический для русской традиции образец конструирования и функционирования этого мифа – пушкинское «Я помню чудное мгновенье…». Как Цветаева переписывала миф поэтического вдохновения, снимая с традиционных моделей их гендерную определенность и пробивая себе путь к статусу поэта-гения через творческие диалоги с поэтами из числа современников, и каковы оказались потери и приобретения в этом рискованном поэтическом предприятии, – вот те вопросы, которые подтолкнули меня к настоящему исследованию; этим вопросам оно прежде всего посвящено.
Прошло уже больше десяти лет с тех пор, как эта книга увидела свет на английском языке. Эти годы, особенно в России, были отмечены подлинным взрывом в цветаеведении, появилось огромное множество исследований, исходящих из самых разнообразных методологических установок, от лингвистических до психоаналитических, где творчество Цветаевой рассматривается с самых разных точек зрения, от интертекстуальной до религиозно-мистической. В этом новом научном контексте моя книга, конечно, выглядит совсем по-иному, и об этом необходимо сказать: ведь в период, когда я ее писала (1997–2000), ландшафт исследований, посвященных Цветаевой, был весьма отличен от сегодняшнего и куда более скуден. За исключением глубокого, хотя и жестко структуралистского исследования Светланы Ельницкой 1990 года «Поэтический мир Цветаевой», монографические исследования девяностых годов были посвящены преимущественно биографии поэта. Даже такие авторы, как Виктория Швейцер, Джейн Таубман и Лили Фейлер[2], серьезно исследовавшие поэзию и поэтическую идеологию Цветаевой и, несомненно, повлиявшие на мое понимание ее творчества, все же приходили к ее поэзии через биографию, тем самым подтверждая ранне-феминистскую концепцию Барбары Хельдт, сформулированную в ее основательном, но ныне несколько устаревшем исследовании «Ужасное совершенство: Женщины и русская литература» (Barbara Heldt, «Terrible Perfection: Women and Russian Literature», 1987). Б. Хельдт утверждала, что «жанры лирической поэзии и автобиографии давали женщинам-писательницам возможность выразить то, что шло от их женского “я” – то, что способствовало совершенствованию собственного творческого становления и словесного искусства в интересах этого “я”»[3]. Взгляд на поэзию Цветаевой как на преимущественно автобиографическую как по импульсам, так и по смыслам, разделяли, хотя и в несколько ином ключе, французские критики феминистского направления Люс Иригарей (Luce Irigaray) и Юлия Кристева (Julia Kristeva). Возможно, именно потому, что этих теоретиков более всего занимал символический потенциал ее самоубийства, поэзия Цветаевой привлекла их как идеальный, с их точки зрения, образец écriture feminine [женского письма]. Иными словами, они накладывали на творчество Цветаевой собственные политические схемы, интерпретируя его как парадоксальное и интуитивное вписывание опыта существования в женском теле в контекст доминирующего патриархального символического порядка, который, отвергая ее, превращает Цветаеву одновременно и в жертву, и в мятежницу.
Итак, таков был критический и академический ландшафт, в котором была задумана и написана моя книга. Сегодняшняя ситуация совершенно иная. Помимо того, что за последние годы исследование творчества Цветаевой достигло высокого уровня зрелости и сложности, открытие архива Цветаевой в 2000 году и посвященные ему в последующие годы труды исследователей сделали доступными многие ранее не известные материалы, среди которых значительное место занимают записные книжки Цветаевой и тома переписки, включающие переписку с двумя героями моей книги, Николаем Гронским и Борисом Пастернаком[4]. Появились новые подспорья для научной работы, о которой в девяностые мы не могли и мечтать: помимо легкого теперь электронного поиска в оцифрованном корпусе сочинений Цветаевой на таких сайтах, как «Наследие Марины Цветаевой» (www.tsvetayeva.com) и других, целиком вышел составленный Ольгой Ревзиной четырехтомный «Словарь поэтического языка Марины Цветаевой» (1996–2004) – поистине подвиг ученого. Стали появляться и тонкие разборы поэтики Цветаевой, в которых вопросы пола и гендера рассматриваются с полной серьезностью, вне банальных стереотипов – прежде всего, это книга Кэтрин Чепела «То же одиночество: Борис Пастернак и Марина Цветаева» (Catherine Ciepiela. «The Same Solitude: Boris Pasternak and Marina Tsvetaeva», 2006). Чепела, опираясь на скрупулезно собранный и тонко проанализированный материал, обнаруживает общий, восходящий к символизму, исток свойственного обоим поэтам представления творческой деятельности в терминах чувственной любви[5]. Даже биография Цветаевой за эти годы претерпела некоторые изменения. В последние советские и первые пост-советские годы был открыт не только архив Цветаевой, но и целый ряд других архивов, что позволило по-новому взглянуть на некоторые общепринятые «факты» ее жизни – прежде всего это касается событий, предшествовавших самоубийству, и причин, подтолкнувших ее к нему. Ключевую роль в этой ревизии сыграло проницательное и тщательно документированное исследование Ирмы Кудровой «Гибель Марины Цветаевой» (1995, англ. пер. 2004)[6].
Зачем же тогда – в свете всего этого научного прогресса в изучении жизни и творчества Цветаевой – зачем издавать мою книгу сейчас, по-русски, в России? Что она может дать русскому читателю, специалисту или просто поклоннику Цветаевой? В чем ее отличие от более свежих высочайшего качества академических исследований? И, прежде всего, чем отличается эта книга от двух превосходных научных трудов, тематически, казалось бы, наиболее к ней близких – Ирины Шевеленко «Литературный путь Цветаевой: Идеология – поэтика – идентичность автора в контексте эпохи» (2002) и Романа Войтеховича «Психея в творчестве М. Цветаевой: Эволюция образа и сюжета» (2008)? Обе эти книги, как и моя, представляют поэтический путь Цветаевой хронологически; если Шевеленко затрагивает все основные поэтические темы Цветаевой и те интеллектуальные проблемы, которые они ставят, то Войтехович сосредоточивается на том, что он называет «образом и сюжетом» Психеи в корпусе произведений Цветаевой. Впрочем, обоих авторов интересует прежде всего эволюция поэтики Цветаевой в контексте той культурной, литературной и идеологической среды, в которой она формировалась. Соответственно, оба используют исследовательский подход и язык, тяготеющие к позитивности, дедуктивности и объективности, и делают акцент на эксплицитном, фактическом, контекстуальном прослеживании подтекстов, отсылок, влияний, тем, идей. Поэтические мотивы рассматриваются как литературные индексы, отсылающие к целым комплексам унаследованных интертекстуальных источников и смыслов, которые прилежный критик в состоянии распутать и увязать с их истоками и соответствующими смыслами.
Мой подход к толкованию поэтики Цветаевой несколько иной. Стремясь не попасть в тиски сугубо биографического способа чтения, доминировавшего в цветаеведении в 1980-е и 1990-е годы, я поставила своей задачей отделить поэзию Цветаевой от фактов ее жизни и отдаться интерпретации ее стихов как таковых, двигаясь изнутри вовне, воспринимая автора не по разряду «женской поэзии», но как поэтического субъекта, мышление которого глубоко сосредоточено на определенных всерьез продуманных, объединяющих интеллектуальных, этических и прежде всего эстетических вопросах. Мой анализ имеет скорее мифопоэтическую, чем историко-литературную ориентацию, – именно последняя доминирует в значительной части посвященных Цветаевой современных исследований. Моя цель – не погрузиться с головой в источники и влияния, а понять, как действуют внутренние механизмы поэтического сознания. Мой способ исследования – скорее поэтическая интуиция, чем систематическая логика. Впрочем, из этого вовсе не следует, что мое прочтение творчества Цветаевой произвольно: мой подход не менее строг, чем у исследователей иного склада ума, но это строгость другого происхождения и рода – строгость, которую, как мне хотелось бы думать, сама Цветаева могла бы назвать строгостью провидения. Ведь она сама пишет в эссе «Поэт о критике»: «Кто, в критике, не провидец – ремесленник. С правом труда, но без права суда. Критик: увидеть за триста лет и за тридевять земель» (5: 280)[7]. Цветаева не любила сухой, бездушной «науки»; прочтя исследование Эрвина Роде о роли мифа о Психее в древней Греции[8] – книгу, чтение которой предвкушала с волнением и которая должна была оказаться созвучной ее интересам, – она с отвращением написала своей подруге Ольге Колбасиной-Черновой: «…ученый труд, сухой, sans genie[9]. Мне, в итоге, важно, кто пишет, а не о чем! А здесь – никто, и Психея не встает. Тело, из к<оторо>го Психея отлетела, – вот его книга. С удовольствием бы продала» (6: 702).
Мифологический подход к творчеству Цветаевой не только интеллектуально плодотворен, свидетельством чему – работы таких ученых, как Ельницкая, Фарыно, Осипова, Мейкин, и многие другие, но он также естественно и несомненно проистекает из мифопоэтической ориентированности самой Цветаевой, как она пишет в эссе «Дом у Старого Пимена»: «… всё – миф, так как не-мифа – нет, вне-мифа – нет, из-мифа – нет, так как миф предвосхитил и раз навсегда изваял – всё…» (5: 111). Для Цветаевой миф – обязательный чистящий фильтр, через который она должна пропустить реальность, чтобы извлечь из нее духовную сущность, а остаток отбросить. Мирча Элиаде в своем фундаментальном антропологическом трактате «Аспекты мифа» говорит, что миф – это парадигма для понимания реальности и манипулирования ею, придающая ей смысл: «…речь идет не о “внешнем”, “абстрактном” познании, но о познании, которое “переживается” ритуально, во время ритуального воспроизведения мифа или в ходе проведения обряда (которому он служит основанием); <…> так или иначе миф “проживается” аудиторией, которая захвачена священной и вдохновляющей мощью воссозданных в памяти и реактуализированных событий»[10]. Эта цитата может служить описанием практики ритуализации, к которой прибегала Цветаева, структурируя с помощью мифа как свое письмо («ритуальное воспроизведение мифа»), так и жизнь («проведение обряда») ради того, чтобы превзойти беды и разочарования повседневности и достичь состояния поэтической экзальтации.
Но что это за «ритуал», который Цветаева раз за разом воспроизводит в своем творчестве и в своей жизни? На мой взгляд, он заключается в неосуществимом стремлении женщины-поэта познать свою музу вживую, во плоти – стремлении, окрашенном знанием о том, что, добившись своего, она неизбежно утратит своего возлюбленного-музу в жизни, пусть и достигнув союза с ним в поэзии. Иными словами, Цветаева каждый раз делает ставку на то, что ее отказ в реальной жизни от потенциального поэтического возлюбленного, по логике мифа, послужит импульсом для вдохновения, создания новых стихов. Это стремление одновременно искать встречи и жертвовать ею, привораживать и изгонять, любить и терять порождает своеобразную цветаевскую формулу волнующих, возвышающих «невстреч», «разминовений» – это и есть то опасное поэтическое балансирование над бездной, необходимое Цветаевой для творчества. Как я стараюсь показать в своей книге, Цветаева-поэт раз за разом добровольно отказывается от привычки слепой, темной, неведающей, невопрошающей, телесной, земной любви (женщины к мужчине) ради вдохновляющего ее риска познания, самоопределения, неповиновения, обретения голоса и полета в высоты потусторонней, равноправной, духовной, до самой последней глубины «человеческой» (а не только «женской») любви (любви одной души к другой) – «мир вещественный» она меняет на «мир существенный»[11]. Именно этот устойчиво разыгрываемый паттерн я во второй главе книги называю цветаевским «мифом Психеи», который, впрочем, не следует однозначно идентифицировать с древнегреческим источником, «Золотым ослом» Апулея (равно как и моя книга не претендует на то, чтобы служить исчерпывающим культурологическим или типологическим исследованием роли Психеи в корпусе произведений Цветаевой). В английском заглавии этой книги «A Russian Psyche: The Poetic Mind of Marina Tsvetaeva» слово «psyche» (психея) имеет тройное метафорическое значение: это одновременно и творческое сознание (психика), и психея как душа, и Психея как ключ к мифическому преображению жизни в поэзию. Иными словами, для меня «психея» обозначает мифическое единство в творчестве Цветаевой художественной психологии, духовной сущности и поэтического мышления. Психея служит Цветаевой маской, Психея Цветаевой – синоним возвышенного представления о поэте как о чистой духовности и условный знак того пророческого прозрения, посредством которого Цветаева преображает потаенную канву своей жизни в мощные произведения искусства.
Цветаевский миф о Психее – это, в конечном счете, постоянно повторяющийся мотив мучительной промежуточности женщины-поэта, словно акробатки, рискованно балансирующей между земным существованием в теле и вечной сущностью в чистом духе. Концептуальный исток этого мифа-лейтмотива можно проследить в двух восклицаниях Цветаевой. Во-первых, это болезненный вопрос «Что же мне делать <…> / С этой безмерностью / В мире мер?!» (она раз за разом роковым образом попадает в этот мучительный зазор между смертным и божественным и отчаянно ищет выхода). Во-вторых, это определение: «Любить – видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители» (настоятельная идеализация творческого потенциала любви)[12]. Рассматривая эти два характерных для Цветаевой высказывания вместе, мы видим, как Цветаева, подобно эквилибристке, преодолевает земные ограничения, отказываясь при этом от всякой опоры в реальности. В реальности, плененный жизнью и телом возлюбленный (Амур/Эрос) приобретает черты чудовищности, влечет ее в уничтожающую потерю субъектности (в немоту, безмолвие) – но будучи пойман и преображен поэтическим воображением женщины-поэта, он становится божественной музой-спасителем, дающим голос и освобождающим от земных границ.
Вполне естественно, что у кого-то из читателей может возникнуть вопрос, не слишком ли субъективен мой подход на фоне исследований русских авторов, претендующих на строго научную методику и, следовательно, высокую степень объективности. Готова признать, что моя книга действительно субъективна. И, будучи сама поэтом и переводчиком Цветаевой, рискну утверждать, что интуитивная субъективность, соприкасающаяся с внутренней логикой поэзии, может быть не менее ценна, чем академически строгие штудии: оба подхода служат своей цели, и могут и должны существовать бок о бок. Кроме того, в своем прочтении Цветаевой я стараюсь объединить темы ее творчества, к которым обращались многие другие исследователи, придерживающиеся более академической ориентации. Среди этих тем – недостижимость подлинного счастья в реальной жизни, враждебность к телесности, трудность признания инакости другого, противоречивая идентичность женщины-поэта, одиночество, неудовлетворенное желание, роковые невстречи, отречение от возлюбленного, поэтический генезис, духовная трансценденция, стремление за пределы телесной и земной жизни, отказ от пола и гендера, смерть. Все эти на первый взгляд разнородные темы могут быть выведены из того анализа творческого мифа Цветаевой об обретении вдохновения женщиной-поэтом, который является центральной темой моей книги.
Из всего сказанного отнюдь не следует, что, пиши я эту книгу сейчас, я бы ничего не изменила. Конечно, нет. За прошедшие годы мой способ мышления стал определеннее, представление о научном труде – более зрелым; я знаю больше; кроме того, о чем уже шла речь выше, появилось множество новых работ о Цветаевой, которые дают новый контекст для научного вдохновения, отклика и диалога. Возможно, за эти годы, приобретя опыт академической жизни и ее ограничений и условий, я и сама стала в большей мере ученым, нежели поэтом. Однако надеюсь все же, что эта книга – такой, какой она была написана – смогла пережить свое время, а предложенное в ней исследование творческого мифа Цветаевой по-прежнему способно сказать читателю что-то новое. Более того, я надеюсь, что мои исследовательские методы, как бы они ни отличались от тех, которые используют ученые русской филологической школы, могут привлечь внимание русскоязычных читателей.
За те без малого пятнадцать лет, которые прошли со времени завершения этой книги, я занималась в основном Пушкиным – однако путь к нему я нашла через Цветаеву. В эссе «Мой Пушкин», «Искусство при свете совести» и «Пушкин и Пугачев», а также в цикле «Стихи к Пушкину» она писала о том, что истоки ее собственной погруженности в проблематику конфликта между человеком и поэтом, между этикой и эстетикой следует искать в пушкинском поэтическом наследии и биографии: «Пушкин, как Гёте в Вертере, спасся от чумы (Гёте – любви), убив своего героя той смертью, которой сам вожделел умереть. И вложив ему в уста ту песню, которой Вальсингам сложить не мог. <…> Весь Вальсингам – экстериоризация (вынесение за пределы) стихийного Пушкина. С Вальсингамом внутри не проживешь: либо преступление, либо поэма»[13]. В этой интерпретации пушкинскому Вальсингаму в творчестве поэта-мужчины отводится почти та же роль, которую в творчестве женщины-поэта играет поэт-возлюбленный: он – возбуждающее, чумное чудовище, которое необходимо изгнать из души поэта, чтобы потом последовать за ним в потустороннее – в область вечно поэтического. Недавно я составила посвященный Пушкину сборник, в который вошли статьи разных ученых, как русских, так и западных, посвященные проблематизации общепринятых представлений о жизни Пушкина и его произведениях, – книга эта вышла в 2012 году и называется «Табуированный Пушкин: Темы, тексты, интерпретации» («Taboo Pushkin: Topics, Texts, Interpretations»)[14]. Сейчас, опубликовав ряд статей на разные, в основном пушкиноведческие темы, я работаю над монографией, посвященной поэтическим мифам в творчестве Пушкина, ее предварительное заглавие – «Опасные стихи: Александр Пушкин и этика вдохновения». Если бы не мое многолетнее погружение в поэтику Цветаевой, я бы никогда не нашла этого нового, трудного и рискованного, но чрезвычайно интересного научного пути.
* * *
Текст русского издания не полностью соответствует английскому оригиналу: исправлены некоторые неточности, уточнен ряд формулировок, добавлены примечания, в какой-то мере учитывающие появившиеся за последнее десятилетие исследования и публикации. Наконец, изменено заглавие книги: теперь оно точнее передает тот поэтический (и мифологический) образ, который лежит в ее основе.
Я хотела бы выразить глубочайшую благодарность Марии Эммануиловне Маликовой за ее кропотливый труд над переводом книги с английского, – эту сложную задачу она выполнила весьма изобретательно и с пристальным вниманием к деталям; редактору Анатолию Ефимовичу Барзаху за его скрупулезную, очень чуткую работу над переводом и над идейным содержанием самой книги, – работу, которая нередко превосходила границы чисто редакторских обязанностей; и научному редактору книги Екатерине Ивановне Лубянниковой, чье доскональное знание всех аспектов жизни и творчества Цветаевой не раз помогало мне избегать неловкостей или ошибок. Я навсегда в долгу перед моими учителями, которые сыграли огромную роль в моем научном формировании и были собеседниками и советчиками на давнем этапе первоначальной концептуализации этой книги – это, в первую очередь, Давид Бетеа и Юрий Константинович Щеглов.
Алисса Динега Гиллеспи Университет Нотр Дам, Индиана, США 2015, январь



