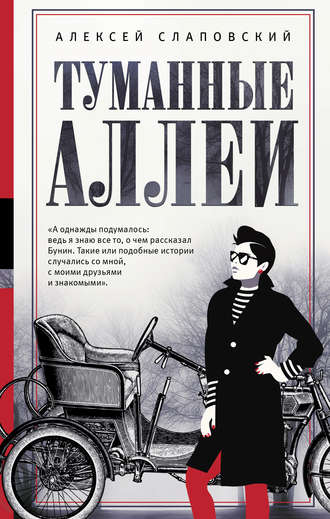
Алексей Слаповский
Туманные аллеи
Красавцы
– Это безобразие, он весь бархат на диване изотрёт.
И. Бунин. «Красавица»
На Пасху, солнечным ранним вечером, к храму Святителя Николая у Соломенной сторожки, знаменитому, деревянному, построенному по проекту архитектора Шехтеля, популярному среди местных жителей, да и всех знатоков Москвы, при этом укромному, расположенному в тихом месте, на краю парка Дубки, подъехала бесшумно и гладко, словно подплыла, новенькая машина, сверкающая боками и дисками колес, серебристый «лексус», похожий на океанский лайнер своим скошенным книзу радиатором и всей своей мощной, но элегантной массивностью.
Из него вышла молодая женщина, тоже, как и машина, новенькая, будто только что рожденная – уже взрослой и готовой, как Афродита. У нее была идеальная кожа лица и обнаженных рук, белые волосы лились плавными волнами. Золотые часики со стразами, наверняка от модного дизайнера, серый брючной костюм без единой складки и морщинки, белые туфли на высоких шпильках – все, что было на ней, показывало, что она по жизни выбирает вещи только самого лучшего качества и ни в чем не допускает отступлений от этого правила. Поэтому и машина у нее – лучшего качества, и церковь она выбрала для посещения – лучшего качества, и все близкие ее наверняка лучшего качества.
Так и оказалось: вслед за ней, чуть замешкавшись, выбрался мужчина – основательно старше, приятно полноватый, что даже шло его высокому росту, с проседью короткой стрижки на большой крепкой голове, и тоже будто новенький, словно он в прежней жизни не был ничьим мужем, а стал им только вот сейчас, при новой жене. И бежевые брюки, и легкая куртка цвета некрепкого кофе с молоком, и коричневые туфли, в которых с первого взгляда угадывались стильность, фирменность и весомая цена, – все это выглядело тоже новым.
А потом начал вылезать мальчик лет восьми, тоже новенький и красивый, в черном костюме с галстучком, похожий на маленького взрослого. Он вообще, как ни странно, казался взрослее своих спутников – выражение лица озабоченное, поспешное и испуганное; такие лица бывают у стариков, которые понимают свою никому уже ненужность, обременительность, вот и заискивают перед всеми, чувствуя свою вину.
Красавица, повязывая на голову платок и глядя на храм, упрекала мальчика ровным и презрительным голосом:
– Я говорила тебе не трогать, зачем ты туда полез? Ты тупой? Нормальных слов не понимаешь? Орать на тебя?
Мальчик не отвечал, понимая, что любой его ответ вызовет новую вспышку. Он сидел в открытой дверце, спустив ноги вниз. Будто сомневался, позволят ему выйти или нет.
– Чего застрял? – спросила женщина. – Денис, он явный тормоз, его к врачу надо.
– Да ладно тебе, – отозвался мужчина.
– Может, пусть посидит? А то там тоже что-нибудь уронит и разольет, позорище. Машину заодно посторожит, мало ли.
Она глянула на меня, подозрительно стоящего неподалеку. Подозрительно – потому что человек должен или куда-то идти, а если устал, должен сидеть. Этот же стоит и смотрит. Ладно бы на храм глядел, крестясь, тогда понятно. Нет, торчит тут непонятным столбом и пялится в неизвестность. Кто знает, что у таких на уме.
– Пусть разомнется, – сказал Денис.
И мальчик опустил ноги до асфальта.
– Нефиг делать! – возразила красавица. – И я сколько говорила: не спорь при ребенке, мы сами все должны решить! Чтобы выработать одно мнение.
Мальчик убрал ноги.
– Идешь или как? – спросил его Денис.
Мальчик пожал плечами.
– Дело твое, – сказал Денис и пошел к церкви.
Пошла и красавица, на ходу старательно осеняя себя крестным знамением, и удивительным образом казалось, что эти ее жесты – тоже новенькие, вот только что ею придуманные, а если и не ею, то они у нее, несомненно, лучшего качества.
Мальчик остался сидеть.
Он глянул на меня – как-то вопросительно, будто хотел понять, что я слышал и видел и как к этому отношусь.
Я дружески улыбнулся: все нормально, брат, все отлично, жизнь продолжается.
И он в ответ улыбнулся открыто и радостно – как родному, как единственно близкому на свете человеку.
Муж
У него было большое, плоское темя в кабаньей красной шерстке, носик расплющенный, с широкими ноздрями, глазки ореховые и очень блестящие. Но когда он улыбался, он был очень мил.
И. Бунин. «Дурочка»
Это было счастливое время: мы с женой и маленькой дочкой разъехались с моими родителями, разменом это называлось, вселились в однокомнатную квартирку, начали самостоятельную жизнь. Я перекрасил кухню и ванную, наклеил в комнате новые обои, в углу поставили детскую кроватку, у стены диван-книжку, никогда не складывавшийся, на полу был кем-то подаренный палас, ярко-синий с красными кругами, от которых рябило в глазах. Больше не было ничего, да ничего и не требовалось.
К нам приходили друзья и подруги, веселые и холостые, – мы были первой семейной парой и первыми, кто родил ребенка себе на радость и заботу. Они нам завидовали, потому что почти все жили с родителями, были зависимы и материально, и жилищно. А я тогда ушел из школы, где проучительствовал после университета три года, работал грузчиком, получая в два раза больше, чем в школе, после смен коротко спал, а потом запирался в санузле – ставил на старую стиральную машинку «Рига» пишущую машинку «Москва», садился на крышку унитаза, подстелив старое полотенце, чтобы не застудиться, и, бойко стуча двумя пальцами, сочинял рассказы, которые рвал сразу же после сочинения. Рукой писать не мог – плохо разбирал собственный почерк, он меня раздражал. А буквы машинописные, стандартные отчуждали текст, я видел его отстраненно, как не свой. Поэтому и рвал.
С бумагой была проблема. Иногда выручали папа и мама, принося с работы небольшие стопки чудесных, гладких и белых учрежденческих листов. Иногда удавалось ухватить что-то в магазине. Продавалась, помнится, дивная бумага, называвшаяся «Хозяйственная». Пятьсот листов в пачке, очень тонкая, как папиросная, серая, с видимыми в фактуре тонкими щепочками. Зато легко рвалась, а еще можно было использовать как туалетную, которая тоже была в дефиците.
Однажды я пришел с работы и увидел на кухне пожилую женщину, беседующую с моей женой. Я ее встречал до этого во дворе и в подъезде – сутулая, лицо смугловатое, глаза темные, почти черные, как у персонажей мультфильмов сороковых-пятидесятых годов, на щеке большое родимое пятно, здоровалась очень вежливо и очень тихо. Прошмыгивала мимо, словно боялась, что я начну разговор. Сектантка какая-то, почему-то думалось мне.
Увидев меня, она тут же вскочила, сказала, что ей пора. Жена оставляла ее:
– Валентина, чай не допила даже!
– Нет, нет, пора!
– Странная женщина, – рассказала жена. – Мы с ней вместе детей выгуливаем, у них тоже дочь, полтора года.
– Дочь? Она же старая.
– Да, но не совсем. Около сорока ей, просто выглядит так. Жаловалась, ребенок никак ходить не начнет, другие проблемы какие-то со здоровьем, а муж не велит врачам показывать.
– Почему?
– Не верит им. Он какой-то, наверно, двинутый. Они по знакомству поженились, представляешь? Валентина никак замуж не могла выйти, ее мамаша нашла сваху, ты знал, что сейчас свахи есть?
– Нет. А есть?
– Нашли же! И сваха отыскала этого красавца. Еще старше ее. Ты его видел, наверно, лицо такое, как у питекантропа, честное слово!
Да, я его видел. Редкостно некрасивый человек. В каракулевой серебристой шапке военного фасона, в черном пальто. Приземистый, широкоплечий, ноги очень короткие, не больше трети длины тела, особенно это заметно было сзади. А лицо если не питекантропа, то какого-то древнего человека, тоже темное, как у Валентины, с очень широким ртом, выступающими надбровными дугами. Что ж, они друг друга стоят, подумал я с молодой незлой жестокостью.
Я все чаще заставал Валентину. Не имея подруг, она прикипела душой к моей добросердечной жене, то и дело забегала попить чайку, поговорить. Как только я появлялся, она тут же спешила убраться.
– Привыкла, у нее муж терпеть не может, когда кто-то приходит, – объяснила жена. – Вообще дикий. Запрещает ей краситься, не любит, когда она что-то цветное носит, только темное, если что-то такое наденет, он сразу – для кого наряжаешься?
– Верующий, может? Баптист какой-нибудь?
– Наоборот, даже в партии. Один раз какой-то ее родственник анекдот рассказал политический, он ему: при мне больше таких гадостей не говорите! А ее называет только по отчеству, и даже не Ивановна, а – Иванна. Иванна и Иванна, отчество именем сделал. А она о нем тоже без имени. Муж. Или – он. Или – Самохин, по фамилии. Говорит, он с работы приходит, и, если ужин не готов, все, на целый вечер надулся, замолчал. Хотя и так молчит. Сидит, таблицы составляет.
– Какие таблицы?
– Лотерейные. Где номера проставлять надо.
– «Спортлото», что ли?
– Ну да. После каждого тиража записывает выигравшие номера, графики какие-то рисует. Очень хочет выиграть. Вообще нелепо, да? Такое ощущение, что в одном времени живут люди из разных времен. Вот мы, извини, конечно, но мы все-таки современные, согласись, и вот они – как в пещере у себя живут. Только вместо костра телевизор. Книг, она говорит, почти нет. Только детские, она дочери заранее покупает, на вырост, а он каждую проверяет и, если что-то не так, велит вернуть в магазин. А в магазине не принимают, она на работе продает, у кого дети есть. Смешно, правда? И хорошо еще, ей мать помогает, она совсем старушка, внучку к себе берет, Валентина работать может, а то сидела бы дома, как в тюрьме. Жуть.
Однажды Валентина преподнесла мне роскошный подарок: десяток тетрадей в клетку. 12 листов, цена 2 копейки, с рук дороже. Она работала там, где эти тетради производились, и вот выдали какое-то количество в счет зарплаты. Тогда это бывало – натура вместо денег. Я хотел заплатить, Валентина отказалась наотрез. Только просила не говорить мужу.
– С какой стати я ему скажу? Мы даже не здороваемся.
– Это да, он ни с кем не здоровается. Но – мало ли.
Она говорила так, будто извинялась за каждое произнесенное слово, ее было очень неловко слушать. Я пообещал, что не скажу ее мужу, даже если спросит. Жена улыбнулась, оценив мой юмор, Валентина не поняла, всерьез поблагодарила.
Эти тетради я расшил на листы и целый месяц печатал на них. Клетки немного мешали читать, зато помещалось больше текста, листы были длинней обычных.
Время от времени жена рассказывала новости о Валентине и разные занимательные подробности ее жизни с мужем. Оказывается, он требует от нее близости каждый вечер. При этом гасит свет и наглухо задергивает шторы, что, впрочем, соответствует и ее желаниям. Валентина должна лежать молча и дышать негромко, иначе он обижается и спрашивает: «Чего сопишь?» В дни получки, пятого и двадцатого, со смехом и удивлением рассказывала жена, Самохин предупреждает: «Иванна, сегодня дашь мне раком!»
– Тьфу, неужели так и говорит? – кривился я, очень брезгливый на выражения такого рода и всегда – и до сих пор – предпочитающий заместительные обороты.
– Так и говорит. А она этого ужасно не любит, стесняется, даже плачет. Но не при нем – в ванную запрется и там сидит, заливается. А он видит – нос красный и глаза тоже, ругается, думает, что она простудилась. Ненавидит, когда она болеет.
Как-то вечером я вернулся со смены, когда Валентина выходила из нашей квартиры, и, так совпало, в это же время поднимался по лестнице Самохин.
Казалось, Валентина упадет в обморок. Глядя на мужа со страхом, она забормотала:
– А я тут… По-соседски… Зашла вот… Сахара хотела…
Она посмотрела на свои руки, которые выставила перед собой, сложив пальцы ковшом, будто что-то держала, но там ничего не было, она тут же оправдалась:
– А у них тоже… Вот время какое, даже сахар в дефиците!
Самохин стоят, молчал и слушал. Тень усмешки промелькнула на мрачном лице: ему было занятно наблюдать, как выкручивается Валентина. Потом отдельно осмотрел мою красавицу жену и, похоже, не одобрил. Осмотрел и меня, худого, молодого, волосы до плеч, глаза веселые и наглые. Одобрил еще меньше. И пошел дальше. Валентина заторопилась за ним, на ходу оборачиваясь и разводя руками: уж извините, что так!
После этого она неделю не приходила к нам. И с дочерью своей по вечерам гуляла отдельно, посматривая на наши окна. Жена, не желая ее смущать, в это время не выходила.
А потом вдруг сказала, что Валентина и Самохин зовут в гости.
– Он узнал, что ты в школе работал, что университет закончил, почему-то заинтересовался.
– Ты тоже университет закончила и сама там преподаешь.
– Я баба, он, судя по всему, баб всерьез не воспринимает.
– Ладно, сходим.
Это было в субботу вечером. Встретили нас честь честью, с накрытым, как на праздник, столом. И курица там была, и салат какой-то, и пирожки, и даже вино. Запомнилось, что это был портвейн «Кавказ» в шампанской бутылке, народное название – «огнетушитель». Напиток жуткий, крепкий, отрада алкоголиков, но что-то получше тогда достать было трудно. Зато рюмочки Валентина подала красивые, хрустальные.
Самохин пожал мне руку, представился:
– Валерий.
Мне удивительно показалось, что у него есть человеческое имя, и я тут же, конечно, своего удивления мысленно застыдился, поэтому был с Самохиным почеркнуто вежлив.
Жена моя расхвалила их дочь, которая ползала на полу, во что-то играя, назвала красавицей и умницей, Валентина расцвела, Самохин не обратил внимания.
Чинно сели, выпили, закусили. Валентина, мечась в кухню и обратно, выглядела счастливой: надо же, гости пришли, все как у людей! Мы поговорили о том о сем, в том числе, конечно, о политике, как всегда водится в русском застолье, даже немного поспорили. Я тогда охотно спорил с любым человеком и по любому поводу, не зная еще, что истина рождается в споре лишь тогда, когда ее хотят родить, а это бывает очень редко. В большинстве случаев, как и в любовных нежных делах, важней не деторождение, а сам процесс. Мне не терпелось показать свой ум, оригинальность, широту кругозора, я очень не сразу догадался, что многих это только раздражает – у всех свой ум, своя оригинальность, своя широта.
Но Самохину не терпелось перейти к другой теме, и он перешел.
– Значит, вы на философском факультете учились?
– Нет, на филологическом. Литературу изучал.
– Иванна, ты напутала, что ли? – упрекнул Самохин жену.
Та застыла с тарелкой в руке, виновато посмотрела на меня, на него, оправдалась:
– Валера, я так и сказала, филологический!
– Ну, значит, я дурак! – весело сказал Самохин, подмигивая и как бы говоря: мы-то понимаем, кто сдурил на самом деле, но уж ладно, такой уж я великодушный, прощаю!
– Да нет, Валера… Просто… Наверно, все-таки я спутала.
– Ладно, ладно! Философия, филология, это все рядом. Это высшее образование, а оно недаром высшим называется. А сейчас, значит, грузчиком трудитесь?
– Да. Нормальные деньги.
– Понимаю. Сочувствую. Там же вокруг, наверно, безграмотные, бездуховные люди?
– Да нет, есть разные, – сказал я, вспоминая нашего бригадира-выпивоху Шкляева, который всегда находит нам самую выгодную работу, за это получая привилегию не работать руками, а только наблюдать; могучего пожилого Матвейчука, трижды сидевшего за взломы и грабежи и вставшего на путь исправления, ненавидевшего, когда рядом курят или ругаются матом; балагура Костю, который как раз охотник покурить и поругаться – не со зла, а в силу артистизма натуры; молчаливого Юру Сучкова, человека с выдающимся носом, который в тридцать с лишком лет одинок, постоянно рассказывает о неудачных попытках с кем-то познакомиться, а свои густые и длинные волосы перед зимой химически завивает, чтобы даже из-под шапки они смотрелись привлекательно.
– Нет среди работяг никаких разных! – заявил Самохин. – Я техником среди них двадцать лет кручусь, знаете, что их только волнует? Зарплата и норма! Вечно воют, что зарплата маленькая, а норма большая! И все, и больше никаких интересов. Но я не об этом. Как вы относитесь к теории вероятности?
Вопрос был неожиданным, поэтому я ответил несерьезно:
– Хорошо отношусь.
Самохин хмыкнул. Но снизошел к моей молодости, не замкнулся, не ушел в себя, продолжил:
– Значит, считаете, что всегда есть факторы, которые можно учесть и рассчитать?
– Есть, но мало, – ответила вместо меня жена. – Вон в соседнем дворе на человека сосулька с крыши упала, чуть до смерти его не убила, как это рассчитаешь? Шел себе, шел – и бац!
Самохин посмотрел на нее раздраженно. Он не к ней обращался, что за вольности такие! Валентина страшно испугалась, начала что-то накладывать на тарелку, привстав так, что заслонила собой мою жену, будто защищая ее, одновременно она глянула на мужа просительно, будто умоляла его пощадить наивную женщину, которая не соображает, что говорит. Но тот и сам решил не обращать внимания на пустяки, слишком увлеченный ходом своих мыслей, слишком желая эти мысли высказать.
– Хорошо, возьмем этот бытовой пример, – сказал он мне. – На самом деле и это можно рассчитать. Количество осадков, количество скопившего снега на крыше, температурные перепады, образование сосулек, время, необходимое, чтобы масса сосульки стала выше критической. А еще ведь статистика, количество несчастных случаев в данный период на данной территории в пересчете на душу населения! Я не хочу сказать, что вероятность высокая, но она, что главное, возможна и предсказуема! Ее можно предвидеть!
– Да бред! – воскликнула жена моя со свойственным ей прямодушием. – Дичь какая-то! Хотите сказать, что, если я подсчитаю осадки, снег – что там вы еще говорили? – статистику на душу населения, тогда смогу уберечься? Ерунда полная, простите! Это за секунды происходит, никто не способен подсчитать, в какую именно секунду сосулька рухнет! Только если не ходить там, но как не ходить, домой-то надо попасть, правильно? Вы что, и в лотерею так выиграть хотите? Подсчитать вероятность?
И она кивнула в сторону телевизора. На нем, накрытом кружевной салфеткой, лежала кипа истрепанных по краям тетрадей, из них высовывались листы с цифрами и диаграммами, прямоугольники лотерейных билетов, сверху лежали карандаши, школьный треугольник и циркуль.
Валентину как столбняком ударило, она сидела, ссутулив до горба свою спину, не поднимая глаз. Самохин крепко сжал свой длинный рот и казался жрецом, в присутствии которого надругались над капищем. Помолчав, он встал из-за стола, очень осторожно отодвинув стул. Так осторожничают люди, которые сильно себя сдерживают, боятся собственного взрыва – взять, к примеру, тот же стул и запустить со всего размаха в кого попало.
Деревянными шагами Самохин обогнул стол, пошел к двери другой комнаты, у них было две комнаты, просторно жили, пошел кратким прямым путем, экономя силы. Перед ним оказалась дочь, он отодвинул ее ногой, как неживую, как большую куклу. И девочка безропотно отползла – видимо, привыкла. Самохин скрылся в комнате и аккуратно, но плотно закрыл за собой дверь.
– Извините! – прошептала Валентина.
– Ты еще извиняешься! – возмутилась жена, тоже шепотом. – Хотя зря я, конечно, прости дуру. Испортила все. Мы уйдем, а он тебя теперь заест насмерть.
– Ничего. Я привыкла.
– Валя, если что, беги к нам или вызывай милицию. Я серьезно. Он страшный, я бы с ним ночью в одной комнате не осталась!
– Да нет, ты зря… Он немного… А так… Нормально все. Вы не сердитесь, но идите, пожалуйста.
С этого вечера мы с Валентиной не общались и, конечно, с Самохиным тоже. Она умудрялась так не попадаться на глаза, что я не видел ее неделями. А Самохин, завидев меня, демонстративно останавливался и отворачивался. Я проходил мимо, иногда подмывало сказать что-то ехидное, но хватало ума промолчать.
Потом мы уехали из этого дома, а через много лет я случайно узнал, что их дочь стала чемпионкой области среди юниоров по фигурному катанию. А ведь даже ходить не умела.
Анти-Ганна
…Кресло с полным, бледным, голубоглазым генералом ровно катила навстречу к нему высокая, статная красавица…
И. Бунин. «Антигона»
Я расскажу, если смеяться не будете. Скажете, что таджик неправильно говорит. К нам в Таджикистан русский приедет, тоже будет неправильно говорить, что смешно?
Я ремонт работал, дача, коттедж, в бригада работал. Мене для отец[2] деньги надо было. Отец на грузовик авария попадал, хозяин штраф большой наложил, а отец нога и рука сломал, работать не мог. Я работал много, на отец все деньги слал. Бригада домой поехала, а я не могу ехать, работать надо, деньги надо, зимой остался. Снег чистил, водопровод чинил, все чинил, все умею, в подвал жил.
Один человек меня позвал, тоже таджик, но живет тут давно, у него гости, он меня показал. Почему я тут, а не дома, спросил. Я отца случай рассказал, он говорил, что незаконный преступлений хозяин на твой отец совершил, отец авария не сам делал, хозяин его грабит. Надо тебе туда езжай и суд подавай. Я говорю, что суд не надо, а деньги надо, суд на пользу хозяин решит, а деньги сам все решит, без всякий суд. Он с гостями возмутился, они спорить начали. А один спросил, сколько отец должен. Я сказал, он смеялся, деньги доставал. А хозяин сказал, что только испортишь человек. Надо не рыбу для человек давай, а удочку давай. И они опять спорили, а я не знаю, зачем мене удочка, кого я буду зимой ловить? Они про меня совсем внимания уже не обращали, я на выход пошел, меня там их дочка догнала. Зайчик маленький мене подарок дала. Мягкий зайчик такой.
Совсем мене плохо, для отец нечего послать, кушать мало, все мало. А потом женщина мене позвала. Маргарита. У Маргарита теплиц во дворе, очень большой, цветок и растений рос, такой тропический, знаете, да? Жарко, как у мене дома, я одна рубашка ходил. Она Саня мене звала. Я Сангин, она на русский способ сделала – Саня. Не пожилая женщина, но не молодая, средняя. Я с ней немного спал. Она мене кино нехороший смотреть показала, там мужчины и женщины секс делают, парнография называется. Они парами там, парнография потому, да? Хотя они иногда и трое там. И четверо там. Я сильно стеснялся, а она мене делать как там велела. Никогда я так не делал, а с ней сделал, она мене деньги давала. Теплица работал деньги отдельно, а это отдельно.
Потом муж ее приезжал, он командировка ездил, мене прогнал, что я не садовник. Маргарита мене квартиру в город сняла, рядом, три километра всего, ко мене приезжала, опять кино смотреть показала, мы опять, что там делают, тоже делали. А деньги совсем не давала, только кушать привозила. Я так не согласился, а она мене ругала и из квартира ночью прогоняла. Я на вокзал ночевал, в полиций ночевал, где попал ночевал, умереть хотел, так не хотел жить. Полиций начальник к себе позвал, у него тоже коттедж, ремонт я там делал, на сарай жил. Сарай холодно, у него там старый войлок рулон, я его нарезал, как кошма, три на низ постелил, три сверх на себя положил, мене тепло стал.
С домашний телефон домой позвонил, мене отец сказал, что Маида, сестра, за хозяин выходит. Как такое, Маида тринадцать лет нет! В наш места правильно считают замуж идти пятнадцать лет, шестнадцать лет, а тринадцать лет только очень раньше замуж девушки выходили, теперь нельзя так, нехорошо. Отец говорил, что загс не будет, никох[3]будет. Я подождать просил, что деньги пришлю, отец говорил, что на март уже свадьба будет.
Я дальше работал, потом полиций начальник узнал, что я Таджикистан звонил, на мене кричал, сказал, что за это штраф будет, и мене не платил совсем. А я уже вся работа кончил. Выгнал мене, ничего не дал.
Я опять без понятий, что делать, ходил, работу искал. Вижу, девушка балкон стоит, сигарет курит. Я говорю, что надо работа, она говорит, что тут нет работа. Я говорю, что все умею, и то умею, и это умею, она говорит, что и то не надо, и это не надо, давай иди. А я стою, смотрю, мене она нравится, я весь улыбаюсь. Говорю, ты мене извини, что я скажу, но послушай, я любовник хороший быть могу. Она смеяться начал. Я уходил, а она кричит – стой, сюда иди. Я иду, она мене говорит, дверь зайди с той сторона, я открою там. Встретила меня там, кухня позвала, кормила, вопрос мене говорила. А сама на мене смотрела, а потом сказала, что, Саня, красивый ты. Почему у тебе глаз не узкий, спросила, ты весь европейский, как испанец какой-то. Я говорю, что таджик внешность не китаец или киргиз, мы глаза круглый, лицо длинный, кожа от солнца смуглый, но белый.
Мы шепот говорили, она сказала, что тут один только человек живет, он шум не любит совсем. И она мене оставила там. Там много комнат, она мене отдельно повела на второй этаж. Ванна, туалет, все есть. Я очень рад, руку ей целовал. Она смеялась, кто тебя научил? Я раздевать куртка стал, из карман зайчик достал. Она опять смеялась, что ты маленький разве, зайчик игрушка карман носить? Я сказал, что девочка подарила. Все ей рассказал про мене, она грустила, даже плакала. Ночью пришла, сказала, покажи, как ты любовник, если обещал. Я показал, она шутила несерьезно сначала, потом удивилась, откуда я это могу, я ей про женщину с теплиц рассказал, она опять смеялась.
Ганна ее звали, с Украины приехала. Говорила, что она, как я, гастор-батор. Она за хозяин-инвалид ходила, образование медсестра было у нее. Я не видел хозяин, жил своя комната, Ганна мене никуда не пускала, кормила, деньги даже дала, я сказал, лучше мой отец послать, она послала.
Один раз она где-то была, а я спал. Проснулся – на меня этот инвалид сидит и смотрит. Он на лифт поднялся, коляска с мотор, сам ехал и приехал. Сердился, кто такой, спросил. Я вся правда сказал. Тут Ганна приходила, он на нее кричал. Я думал, она просить прощений будет, а Ганна сама кричала, что вещи возьмет сейчас и уйдет совсем. Он сказал, не надо, не уходи, пусть только он уйдет. А Ганна кричит, что Саня не уйдет, она тут как в тюрьме живет, одной тяжело, пусть останется и помогает. Долго ругались, но я остался.
Стал не прятаться, все помогать, узнал про хозяин. Зовут Зверев Альбер Петрович. К нему только врач ходил, адвокат ходил. Иногда он на машина город ездил, Ганна за руль сидела. А у Альбер Петрович только ноги не ходили, остальной нормально. Голова, руки, все. Они в суд ездили. Ганна рассказала, что Альбер Петрович этот дом строил, бригада дом сдала, Альбер Петрович поселился, ему сверху карниз в голову упал, он умер почти, реанимаций его лечил, он живой стал, а ноги ходить перестали, только коляска. Он клятву дал, что строители тюрьма засудит, прораб засудит, владелец компании засудит. Один раз меня взял, чтобы помогал, а потом всегда брал. Я в суд никогда раньше не ходил, кино видел, думал, там будет зал большой, а там комната маленький, судья-женщина сидит, несколько человек сидит. Адвокат за Альбер Петрович спорит, другой адвокат за строитель, прораб и владелец спорят, кричат, ругаются, Альбер Петрович злится и сердится, а в машине потом смеется.
Я удивлялся, где семья Альбер Петрович? Ганна сказала, две семьи у него было, первый жена давно развод взяла, дети большие совсем, по себе живут, второй жена его обокрала, так Ганна говорила, и за границ поехала. Альбер Петрович обиделся, весь наследство на Ганна написал. Но договор составил, что Ганна наследство получит только в случай ненасильной смерти. Ганна говорила, что наследство никогда не будет, Альбер Петрович сто лет проживет.
Один раз Ганна приходит ночью и плачет. Что такое, что плачешь? Она молчит, а потом говорит, он меня измучил совсем. Первый год ее заставлял – то так одевайся, то так одевайся. Она слушалась. Потом начал раздеться просить. Она не хочет, он деньги дал, она стала раздеваться каждый вечер. Он смотрит, а она ходит или танцует. А он как мужчина не может поступить, только смотрит. А потом просил, что ты вот тут ложись и так делай, будто мужчина с тобой, хотя никого нет. А ты одна изобрази все это, как оно бывает с мужчиной, но без него. Ганна не хотела, говорила, что ты, если так интересно, женись на мене, и все будет тебе. Он сказал нет, опять деньги ей дал. А Ганна деньги надо, мама больной, операция делать надо, родственники бедные все, она согласилась. И начала ему концерт скрипка без оркестра показывать, так она это назвала, концерт скрипка без оркестра. Юмор в виду имела. У женщины с теплиц я тоже такое кино в интернет видел, там тоже девушки сами себе все делали.
И тут она сказала, что Альбер Петрович теперь придумал, чтобы я и Ганна ему вместе секс показали, а он смотреть наблюдал. Я так рассердился, что сказал, что пойду и этот дурак убью совсем. Ганна сказала, что это всегда успеем, а пока надо соглашаться и показать. Она заметила, что Альбер Петрович плохо становился, когда он смотрел, как она все делала. Весь красный делался, сердце хватал. Ганна мене сказала, что если Альбер Петрович теперь плохо, то, когда мы двое будем, он совсем плохо будет. И будет ненасильная смерть и он умрет, а Ганна богатая станет и мене тоже деньги поделит, я отец выручаю, сестра выручаю. Мене даже больно сердце стал, как Альбер Петрович, а согласиться все равно никак не мог.
Тогда Альбер Петрович мене позвал, много говорил, спросил про отец, мама, как наша там жизнь, я все рассказал. Он мене добрый показался. Даже ласковый. Но Ганна потом сказала, что он злой, оба семья сбежали не за то, что он прогнал, а сами убежали, даже деньги его не надо, так он всех достал, она сказала. А мене деньги надо и тебе деньги надо, все наши проблемы решить можно.
Я долго думал, вся ночь не спал, согласился. Сначала ничего не получился. Я все сделал, а главное сделать никак не могу. Ганна помогала, только хуже вышло. Я вижу, что он смотрит, и совсем ничего не могу, убежать только хочу. Ганна сказала, давай кино смотреть, какой тебе женщина с теплиц показывал. Альбер Петрович тоже сказал, давай, это поможет. Стали мы смотреть, мене противно, я весь морщился, как лимон ел. Он смеялся, сказал, больше не надо, а то Саня совсем ничего не сможет.
И сколько-то время он меня не трогал. И Ганну не звал. Потом позвал с ней, сказал, ничего делать не надо, сидеть будем, говорить будем, вам привычка нужна. И весь вечер мы там сидели, что он такое говорил, я половина ничего не понял. Книжка достал, начал читать про любовь. Я не знал, что книжки такие есть, думал, это только нехорошее кино, где про мужчин и женщин. Нет, книжки тоже. Рассказ читал, Антигона. Потом еще про Антигона читал, что она очень древний женщина. Тоже за пожилой мужчина ухаживал или еще там что-то, я не помню. Сказал, что он и есть такой мужчина, имя сказал, я не запомнил, Эдик, что ли, у меня знакомый был русский Эдик, может, тоже. А этот Антигона я запомнил, он часто повторял – Антигона, Антигона. А ты, на Ганна сказал, Анти-Ганна. Ты сама себе враг, сказал, ты умная, можешь все достичь, а сидишь тут, ухаживаешь за инвалид за деньги. А деньги можно больше взять, если стать проститутка для миллионер, а ты тут ждешь, что я буду мертвый, но ты не дождешься.







