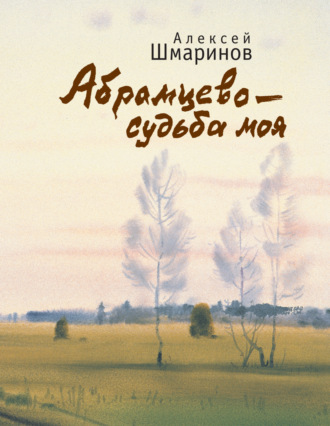
Алексей Шмаринов
Абрамцево – судьба моя
Кроме уже упомянутых мною художников, живших в нашем поселке в те годы, вспоминаю и другие имена: Е. А. Кацман, В. Н. Перельман, Б.В.Иогансон… Их дачи-мастерские располагались в начале поселка за оврагами. Их дети были постарше, внуки помоложе, так что в памяти тех лет остались лишь имена художников.
В первое послевоенное лето на нашей поляне перед участками Радимовых появилась пухленькая миловидная девочка лет семи-восьми со светлыми волосами, заплетенными в косички и, вероятно, с бантами. С ней был еще худенький мальчик, как выяснилось младший брат, еще был огромный мяч. Светлана и Коля Немоляевы и их огромный мяч – эта картина из далекого прошлого запомнилась на всю жизнь.
На всю жизнь запомнилась и первая послевоенная зима в Абрамцеве. Теплый уютный дом с заботливой, всегда удивительно доброжелательной Бабой Вавой в засыпанном снегом дремучем уснувшем лесу. Картошка, приправленная репчатым луком, мукой и молоком, запеченная в дровяной печи. Чай с медом…
Вечером, засыпая при мерцающем свете керосиновой лампы, я разглядывал на дощатом потолке удивительные загадочные картины, нарисованные причудливой текстурой дерева, большими и малыми распилами сучьев. Тут были и забавные физиономии, и разнообразные следы как бы реально существующих и сказочных животных. Чего только не было. Благодатное поле для разгула детской необузданной фантазии.
При первой возможности я отправлялся из Москвы в Абрамцево. Выходные дни, школьные каникулы или даже сорокоградусной мороз, освобождающий от посещения школы, предоставляли мне такую возможность.
В первую послевоенную зиму в заснеженных Абрамцевских лесах у меня произошли две незабываемые встречи. Первый раз это был тот самый случай, когда из-за крутых морозов можно было не ходить в школу.
Поздним холодным утром я оделся потеплее и отправился на лыжах в лес. Миновал усадьбу и двинулся дальше через поля в сторону деревни Глебово. Запрятанная в кустах на моем пути речка Яснушка даже в сильные морозы не замерзала, и потребовалось много времени, чтобы найти возможность перебраться на другой берег этой милой, нежно журчащей на перекатах речушки. В конце концов, пропахав в пушистом снегу в чапыжнике около километра, я по стволу упавшей березы с лыжами в руках преодолел возникшую преграду и оказался на Глебовском берегу. Поднявшись из ложбины на взгорье, вышел на поле уже на задворках деревни. Пошел было дальше по краю поля, но остановился с каким-то странным предчувствием опасности.
Огляделся. Декабрьский зимний день короток. Небо за лесом на западе зажелтело, а снег вокруг, отражая сине-зеленое небо в зените, окрасился в сине-зеленые тона. Тишину зимнего вечера порой нарушали лишь резкие хлопки лопающейся на морозе коры деревьев. И тут я увидел волков. По другому краю поля след в след они двигались в мою сторону. В ужасе я замер. Не помню своих ощущений в тот миг, кроме парализующего сознания страха. Помню только жаркое чувство облегчения, когда стая, не дойдя до меня полусотню метров, свернула в лес. Было мне в ту пору двенадцать лет.
Другой раз я решил не искушать судьбу, не забираться далеко в лес, и направил свои лыжи к дубовой роще, что в полутора километрах от усадьбы. Миновал дом отдыха и двинулся вдоль тропы, ведущей от Абрамцева к Артемову. Дальше слева, чуть на взгорье и находилась так любимая обитателями Мамонтовской усадьбы величественная дубовая роща. На огромной белоснежной поляне, обрамленной посеребренным инеем подлеском, собрались исполинские дубы с мощными темными стволами, и, казалось, поддерживали своими цепкими разлапистыми ветвями упавшее свинцово-серое зимнее небо.
Вернуться домой я решил другим путем и, миновав рощу, углубился в прилегающий к ней лес, и вдруг… явственно услышал доносящуюся из засыпанного снегом бурелома чистейшую немецкую речь. Я на мгновение затаился. Что это? Послышалось? Нет, тишину заснеженного леса вновь нарушила знакомая с детства Deutsche Sprache. Пригляделся и увидел среди кустарника солдат в серых шинелях. Вот это да! Полгода как война закончилась, а немцы еще скрываются в подмосковных лесах.
Подгоняемый неподдельным страхом, я, что есть сил, помчался домой. Весть о том, что немецкие солдаты схоронились в нашем лесу, мгновенно стала сенсацией, но так же быстро выяснилось, что это бригада военнопленных расчищает участок под строительство дачного поселка Академии наук.
Со времени завершения строительства нашего дома Абрамцево стало неотъемлемой частью моей жизни. Теперь все наиболее интересные запомнившиеся события происходили на фоне Абрамцева.
Как изначально можно было предположить, моя несравненная охотничья собака с грозным именем Пират, жила не в Москве, а в Абрамцеве под заботливым присмотром Бабы Вавы. Мне же оставалось любить четвероного друга и привозить из города для него провиант. В Абрамцеве купить что-либо было практически невозможно, а в голодноватой послевоенной Москве возможности приобрести нечто съестное строго ограничивались продуктовыми карточками. Но возникшая проблема со временем благополучно разрешилась.
По совету Королева я зарегистрировал Пирата в Отделе собаководства Московского общества охотников и заключил соглашение, в котором предписывалось в обязательном порядке показывать собаку на выставках и охотничьих испытаниях. В случае выполнения данных условий, в соответствии с договором, мой питомец получал некий ежемесячный паек – пуд пшена и несколько килограммов китового мяса. Весьма щедрый дар по тем временам. Про кита не скажу, а пшенную кашу люблю до сих пор.
Летом наша дачная компания оживала. Главным местом сбора по-прежнему оставалась радимовская поляна, а точнее огромный корявый дубовый пень – круглый стол детских сходок.
Однажды, ближе к вечеру, наш сверстник поселковый пастушок выложил на пень некое беспомощное существо, покрытое светло палевым пухом. Это был неоперившийся птенец какой-то, судя по размеру и крючковатому клюву, крупной хищной птицы. Каким образом это создание попало в руки юного пастуха доподлинно не известно. Он утверждал, что малыш выпал из гнезда. Имея за плечами опыт выхаживания лисят, я без колебания забрал птенца к себе домой. Самым сложным изначально было заставить его есть. Любые попытки засунуть ему в рот кусочек мяса были тщетны. Рот был намертво закрыт крепким мощным клювом. Птенец был обречен умереть. Но не умер.
Прежде мне довелось видеть, как птенцы какой-то маленькой птахи, сидящие в гнезде, дружно открывали рты уже при подлете матери. Я имитировал подлет, размахивая руками над упрямцем, и рот немедленно открылся, а мясо было проглочено.
Орлик, так я назвал своего питомца, рос день ото дня. Ел мясо, полевок – лисий деликатес и не отказывался даже от лягушат. Дальше были счастливые дни освоения оперяющимся птенцом окружающего мира. К концу лета он уже самостоятельно существовал под крышей сарая. Парил в небесах со своими сородичами канюками[4], и, когда я вылезал на крышу и приглашал его на обед, охотно спускался с небес на землю.
Все закончилось трагически. Выросший среди людей, Орлик доверял людям. Его застрелил соседский сторож Василь. Потрясенный случившимся, я записал историю моего доверчивого питомца и отправил написанное в редакцию журнала «Пионер». После публикации рассказа[5] со всего Советского Союза пошли письма юных читателей с одним вопросом: за что?
Чтобы как-то пережить случившееся, я в упор занялся воспитанием Пирата. Не скажу, чтобы дела на этом поприще были успешны. Опыта натаски, разумеется, у меня не было, а нрав у будущего охотника был буйный. Но что делать, надо было выполнять условия договора и, для начала, показать его на собачьей выставке в Москве.
В ряду матерых охотников – собаководов худенький подросток, с трудом удерживающий на поводке свою собаку, выглядел нескладно. Это заметили. С особым сострадательным вниманием ко мне и к Пирату отнеслись судьи-эксперты на ринге, среди коих оказался Николай Павлович Пахомов. Волею прихотливой судьбы он на следующий год стал директором Абрамцевского музея, обретшего с 1947 года статус академического.
Николай Павлович был широко образованным интеллигентным человеком, хорошо знающим музейное дело. Что касается разносторонней образованности, то об этом в какой-то мере можно было судить по контактам с нашей семьей. Он сотрудничал с моим отцом по вопросам, связанным со становлением музея. Консультировал отца как знаток классической псовой охоты, в период его работы над иллюстрациями к «Дубровскому» Пушкина и стихотворениям Некрасова, где это тема присутствует. Как лермонтовед был консультантом на фильме «Княжна Мери», в котором в роли Мери снималась моя будущая жена. Натаскивал меня по вопросам, связанным с нагонкой. Николай Павлович был специалистом по собакам для псовой охоты – гончим, а мой Пират был легашом, пригодным для охоты на пернатую дичь. Чепрачный гончий выжлец[6] по кличке Соловей появился у меня годом позже.
Пахомов привлек к работе в ученый совет музея наиболее авторитетных художников их нашего поселка и кое-кого из потомков семьи Мамонтова. Помню Всеволода Саввича Мамонтова – степенного благообразного старика в окружении домочадцев на боковом крыльце барского дома, обращенном к кухне. Среди них был его внук – мой сверстник Сева, который в дальнейшем примкнул к нашей поселковой компании. Всеволод Саввич несколько лет, вплоть до своей кончины, был главным хранителем музея-усадьбы. Забавно, что он, как и Николай Павлович, был среди прочего экспертом всесоюзной категории по гончим и борзым. Так что невесть откуда возникшая у меня с детства любовь к охотничьим собакам есть некая данность для обитателей Абрамцева того времени.
Участие в выставке охотничьих собак осталось позади. Впереди маячили охотничьи испытания. К полевым испытаниям надо было готовиться на поле. И такое поле было в Абрамцеве. Располагалось оно по обе стороны от тропы, ведущей от музея к дубовой роще. Слева колосилась пшеница, справа залегли сенокосные угодья. Летом это открытое пространство, в окруженном лесами Абрамцеве, звучало голосами всевозможных птиц. Жаворонки, желтогрудые трясогузки, коростели, перепела на свой лад создавали музыку лета. Высоко в небе, наблюдая за происходящим на земле, степенно парили канюки – собратья моего Орлика.
К осени с помощью конной косилки луга были выкошены. Сено собрано в стога. Пшеница увязана в снопы. Как тут не вспомнить проникновенные строки Тютчева.
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь —
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле…
На этом отдыхающем абрамцевском поле и происходила «натаска» Пирата по перепелам. Среди лабиринта снопов три участника забавы: мой отец на одном конце длинной сворки, неуемный Пират на другом и я – юный охотник-наставник посредине.
Пират, обладавший превосходным чутьем, довольно быстро находил перепелов и картинно замирал на стойке. Превосходно! Но стоило перепелам взлететь, он, не обращая внимания на мой отчаянный призыв: «Лежать», срывался в погоню, опрокидывая отца, с трудом удерживающего в руках сворку. В развитие этого действа, я стрелял вдогонку улетающей дичи, приучая темпераментного охотника к выстрелу.
Отец изначально не был сторонником охоты, и стоило неимоверных усилий уговорить его помочь мне в натаске Пирата. Но когда я в который раз промазал по взлетающим перепелам, его терпение лопнуло. – В конце концов, ты когда-нибудь попадешь, Мазило! – вырвалось из его груди. Он так и остался до конца дней своих противником охоты. Но уму непостижимо, как во мне сочетались любовь и сострадание к диким животным с развивающейся охотничьей страстью.
На полевых испытаниях, проходивших на угодьях Фрязевского охотничьего хозяйства в сорока километрах от Москвы, мы с Пиратом, разумеется, провалились. Но условия договора с Отделом собаководства Московского общества охотников выполнили – приняли участие.
Со временем к нашей мальчуковой компании примкнула единственная сверстница в поселке – Надя Исакова. Подрастала новая смена: Светлана Немоляева, чьи родители постоянно снимали в Абрамцеве жилье на лето, Ростан Тавасиев, Сергей Радимов, Млада Финогенова. Супруги Финогеновы построили дом в нашем поселке сразу после войны.
Мы же, входящие в пору отрочества, по-прежнему дружно играли в футбол, правда, уже не между собой, а с ребятами из соседних деревень. Эти эмоциональные встречи порой заканчивались массовыми драками. Сева Волков, внук Всеволода Саввича Мамонтова, вспоминал позже, что среди суровых развлечений были и кулачные бои, и ему, младшему среди нас, доставалось особенно крепко.
На территории усадьбы, на поляне, обрамленной старыми липами, между банькой и церковью, располагалась волейбольная площадка. Со всей округи вечерами здесь собиралась молодежь и дотемна шумно играла в волейбол. Порой и нам удавалось приобщиться к игре.
Разумеется, у каждого из нас были свои любимые занятия. Что касается меня, то массовым дружеским развлечениям я предпочитал счастливое одиночество на лоне природы.
Какое блаженство брести босиком с сандалиями в руках по наполненной теплой пушистой пылью дороге, пролегшей среди полей и перелесков. Слушать пение птиц, стрекот кузнечиков, уединившись в необъятном мире. Мне представлялось, что когда-то, шестьсот с лишним лет назад, в самоуглубленном созерцании, бродил по этим лугам отрок Варфоломей. В нашей семье среди глубоко верующих бабушек, мне довелось не раз слышать о Преподобном Сергии Радонежском и о его детских годах в здешних краях. И в моем воображении возникал древний Радонеж с белокаменной церковью, крепостными стенами и башнями на том холме, где ныне расположилось сельское кладбище.
Я любил приходить туда и, выломав в кустарнике палку, ворошить ею землю у подножья холма. Порой находил что-то интересное: старые изъеденные ржавчиной кованые гвозди, остатки каких-то предметов домашней утвари. Однажды я показал свои находки знакомому моих родителей – археологу-профессионалу. Он похвалил меня за любознательность и посоветовал весной после обильного дождя прогуляться в тех краях по свежевспаханному полю. Мой весенний археологический улов еле уместился в большой холщевой сумке от противогаза. Экспертиза показала, что среди собранных черепков многие относились к XIV–XV векам. Истинно святые места для русского человека!
Постепенно я осваивал окрестности Абрамцева. Прогулки становились все длиннее и длиннее. Иногда возвращался домой уже в сумерках. По вечерам, перед сном, с увлечением и со слезами на глазах перечитывал проникновенные рассказы о животных Сетон-Томпсона. А утром, опровергая нормальную логику, заряжал патроны и воспитывал Пирата – страстного охотника.
Но этим дело на собачьем фронте не ограничилось. Судьбе было угодно, чтобы мое охотничье хозяйство пополнилось. Как-то темной зимней ночью воры проникли в наш сарай и похитили козу-кормилицу. Мама и Баба Вава надеялись при помощи козьего молока подкормить меня после голодных военных лет. А тут такая оказия. Решили приобрести новую козу и дворовую собаку для охраны.
За поиски подходящей собаки взялся я. В Московском обществе охотников была книга со списками продаваемых собак. Не без труда мне удалось убедить родителей в том, что ничего лучше неприхотливой русской гончей для охраны сарая просто быть не может. Так впридачу к легашу Пирату у нас появился гончак Соловей.
Как и положено сыну художника, я время от времени что-то изображал на бумаге и иногда ходил на этюды с отцом или с соседкой – художницей Татьяной Радимовой. Но, ни мне, увлеченному радиотехникой, ни моим родителям моя карьера на изобразительном поприще не виделась. Думали, что я пойду по стопам отца моей мамы – технаря.
Но произошло событие, волею Всевышнего, изменившее все предположения по поводу моей будущей профессии. Как-то в конце сороковых годов мой московский приятель и тезка – сын художника Т. Г. Гапоненко – пригласил меня на просмотр работ учащихся Московской средней художественной школы. Эта школа в Лаврушинском переулке была известна в среде художников и имела хорошую репутацию. Наряду с официальным названием МСХШ было еще шутейное прозвище: школа детей одаренных родителей – ШДОР. Шутки – шутками, а на стенах были развешены подлинные шедевры, сотворенные моими сверстниками. Я был буквально ошарашен увиденным. С малолетства приобщенный к рисованию и не увлеченный этим занятием, где-то в закоулках подсознания я не сомневался в своих художнических способностях. Как же так? А я что? На всю жизнь осталось в памяти ощущение того момента, ощущение собственной несостоятельности, разочарования в самом себе.
Я твердо решил поступать в художественную школу. Родители не приветствовали это мое запоздалое решение, но и не противились ему. Сложность состояла в том, что мои сверстники учились художественному ремеслу уже пять лет и мне, предполагавшему поступать в шестой класс МСХШ, что равнялось десятому классу общеобразовательной школы, надо было выдержать строгий экзамен на профессиональное соответствие.
После занятий в обычной десятилетке, размещавшейся недалеко от Савеловского вокзала, я отправлялся на Масловку в мастерскую моего отца, где меня ждал приготовленный им натюрморт. Вскоре ко мне присоединился мой приятель – сын одаренного родителя[7] Вася Ливанов, пожелавший тоже попробовать поступить в МСХШ. Мы всю зиму с неимоверным упорством рисовали, писали акварелью и маслом, копировали рисунки классиков.
В начале лета в Абрамцеве я продолжил усиленно трудиться на художническом поприще, пытаясь хоть в какой-то мере приблизиться по профессиональной подготовке к моим будущим одноклассникам.
Однажды я писал на территории усадьбы пейзаж, примостившись рядом с васнецовской церковью. Незадолго до конца работы ко мне подошел худенький симпатичный мальчик в когда-то красном застиранном свитере. Он молча, внимательно наблюдал за моим живописанием. Когда я закончил работу и отправился домой, он пошел следом. По всему было видно, что мой застенчивый спутник стремится к общению.
– Тебя как зовут? – спросил я, нарушив затянувшееся молчание.
– Шурка, – охотно отозвался мальчонка и продолжил: – Я недавно приехал сюда и живу в усадьбе в доме, где помещается почта.
Я был старше на несколько лет, и Шурка смутился, не зная как продолжить разговор, но набрался духу и спросил.
– А как тебя звать?
– Алексей. Проще Леша. Кстати, Щурка, а ты не мог бы завтра посидеть немного, пока я нарисую твой портрет?
– Ладно. А где?
– В Поселке художников.
Сговорились. На следующий день ровно в полдень Шурка возник у калитки.
К его приходу я подготовил все для работы над первым в моей жизни натурным портретом, писанном масляными красками. Укрепил на крышке этюдника грунтованный картон, выдавил краски на палитру. По отцовскому рецепту составил растворитель из скипидара, лака и льняного масла. И мы начали трудиться. Несколько дней по два – три часа я преодолевал свою профессиональную несостоятельность. И, в конце концов, портрет был написан. Это «произведение», как помнится, не было шедевром, но Шурке понравилось.
Пока мы трудились, он поведал мне непростую историю своей жизни. Шурка родился незадолго до войны на Украине. О своих родителях не вспоминал, а вот детский дом под Житомиром запомнил на всю жизнь. Воспоминания того времени были, мягко говоря, не из лучших.
Каким-то чудесным образом после войны его разыскала родная сестра матери Шурки – тетя Катя и забрала к себе в Абрамцево. В годы войны она работала медсестрой в абрамцевском госпитале и с тех пор обитала в общежитии для сотрудников дома отдыха.
Новая, счастливая жизнь, которая так нравилась Шурке, продолжалась недолго. Родственники с Украины вернули его обратно в детский дом. Но, вкусив «вольную жизнь», Шурка бежал из детдома, сел на поезд и подался в Москву, в Абрамцево. В пути беглеца отловили и определили в какой-то спецприемник.
Мир не без добрых людей, и Шуркиной тете стало известно, что он мечтает вернуться к ней в Абрамцево. Узнав о злоключениях племянника, тетя Катя снова забрала Шурку и поселила у себя.
Жили они вчетвером: тетя, ее малолетний сын от первого брака, новый прошедший войну муж Володя и Шурка. Как и на что жили, одному Богу известно. Слева от усадебных ворот был после революции сооружен двухэтажный барак. На первом этаже размещалась милиция и почта. На втором жили сотрудники Дома отдыха. Тетя Катя с семейством занимала там маленькую комнатушку.
В свои тринадцать лет Шурка понимал, что должен помогать семье. Муж тети подорвал здоровье на фронте, к тому же с того момента, как обосновался в Абрамцеве, заболел желанием стать художником. Так что ожидать помощи от него было трудно.
Шурка устроился в доме отдыха помощником киномеханика и доставлял к киносеансам фильмы из Хотькова и Загорска[8]. Не отказывал в помощи, если кому-то она требовалась. К примеру, он порой сопровождал жену Всеволода Саввича на рынок в Загорск. В его обязанность входил утренний поход к мельнику за молоком для малолетнего сына его тети.
Остатки дряхлеющего дома в зарослях прибрежного кустарника я помнил еще с первого довоенного посещения Абрамцева. Но то, что он обитаем, было для меня полной неожиданностью. Шурка рассказал, что хозяин дома – столетний загадочный старец. Савин, как утверждали старожилы, в аксаковские времена трудился на мельнице. Жил он уединенно со своим сыном. Кормились отшельники от огорода. Держали корову. Бытовали всевозможные легенды о жизни затворников.
А вот то, что старую, застиранную гимнастерку мельника украшали два георгиевских креста, Шурка видел своими глазами.
Летом 1949 года мы с Васей Ливановым со скрипом сдали экзамены в МСХШ и были зачислены я в предпоследний шестой класс, Вася в четвертый.
Школа была основана всего десять лет назад при активном участии известного общественного деятеля, художника, академика Игоря Эммануиловича Грабаря, одного из корифеев нашего абрамцевского поселка. Против школы, на другой стороне Лаврушинского переулка, располагалась Третьяковская галерея. Учащиеся школы имели возможность бесплатно посещать галерею, чем мы и пользовались практически ежедневно во время большой часовой перемены между занятиями по спецпредметам и общеобразовательными. Нестеров, Серов, Репин, братья Васнецова, Врубель, Поленов, Левитан, Антокольский – наше великое Мамонтовское содружество было там широко представлено работами этих замечательных художников.
И в Москве Абрамцево оставалось рядом со мной.
Среди учеников школы кроме москвичей находилось много детей, приехавших из дальних закоулков Советского Союза, и даже были девочки, что во времена раздельного обучения являлось чем-то невероятным. Имели место и дети одаренных родителей. Рядом со мной, в пределах годовой разницы в возрасте, постигали премудрости изобразительного искусства дети художников Ромадина, Белашевой, Гапоненко, внук Иогансона, внук архитектора Щусева, мой друг Вася Ливанов – сын актера…
Хорошо ли быть ребенком одаренного родителя? Изначально, в детстве, однозначно хорошо. Творческая среда в доме. Круг одаренных друзей одаренного родителя. К примеру, первым домашним заданием в школе после каникул было предложение написать пленэрную композицию на основе материалов летней практики. У меня не было летней практики и пленэрных этюдов. Что делать? Отправился к соседу по отцовской мастерской, другу отца, Аркадию Александровичу Пластову.
– Дядя Аркаша, мне нужны для работы над композицией пленэрные этюды, – обратился я, робея, к великому художнику.
– Видишь большой сундук в углу? Открой и возьми, что захочешь.
За пленэрную композицию меня похвалили и выдали полноценную пятерку. Так что быть сыном одаренного родителя поначалу совсем неплохо, но, как выяснилось позже, на выходе в самостоятельную творческую жизнь это не только не помогает, а скорее мешает.
Удачный опыт с первой ученической композицией был лишь эпизодом в череде каждодневных неудач в текущих заданиях по живописи и рисунку. Я глубоко переживал происходившее. Но особенно остро страдала моя мама. Несмотря на то, что дома я тщательно скрывал свои школьные проблемы, она необъяснимым материнским чутьем с сердечной болью воспринимала мои муки творчества.
Отец первые послевоенные годы трудился над завершением иллюстраций, начатых еще до войны, к «Преступлению и наказанию» Достоевского и «Петру Первому» А.Толстого. Жизнь в Абрамцеве подтолкнула его к иллюстрированию сборника избранных стихотворений Некрасова. Он много писал и рисовал с натуры. Но главной работой того времени была работа над иллюстрациями к «Войне и миру» Л. Толстого.
Мои школьные неудачи его не слишком интересовали. Он по-прежнему сомневался в правильности моего выбора в пользу изобразительного искусства. Изначально все складывалось совсем иначе. Отец мамы был инженером, да и сама она, до моего появления на свет, училась в Московском механико-машиностроительном институте имени Н.Э. Баумана. Я в общеобразовательной школе был отличником и проявлял интерес к технике. Пропадал на свалке разбитого трофейного оружия. Занимался в радиокружке.
Как любила мама ходить на родительские собрания, где учителя наперебой хвалили ее сына. И нате же!
Обостренное юношеское самолюбие, подогреваемое каждодневным ощущением собственной творческой ущербности, демонстрируемой в присутствии ироничных талантливых девочек, делало свое дело. Помогали хорошие педагоги и главное, безмерно одаренные сверстники – соседи по классу.
Первый учебный год я окончил вполне удачно, а второй, последний, с медалью и пятерками по всем специальным дисциплинам, что давало мне редкую возможность поступления без экзаменов в Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова.
Как оказалось, в тот год я был не единственным представителем Абрамцева на первом курсе факультета живописи художественного института. Мистика какая-то! Неказистый, мрачный дряхлый барак, рядом с входом в музей, в котором помещалось почта, и проживала тетя моего юного друга Шурки с мужем Володей и племянником, словно испытывал воздействие некоей таинственной необъяснимой творческой энергетики, исторического художнического духа Абрамцева. А как иначе можно объяснить тот факт, что в тесной коммунальной каморке доживающего последние дни советского барака взросли два будущих художника?
Вместе со мной в институт поступил, как льготник, участник Великой Отечественной войны, муж тети Шурика – Володя Корбаков, а ее племянник, после службы в армии, сдал успешно экзамены и был зачислен в Строгановское художественное училище.
На время школьных, а затем студенческих каникул, я неизменно отправлялся в Абрамцево в наш уютный дом с заботливой Бабой Вавой, к моим собакам. Там на природе самостоятельно продолжал постигать азы художнического ремесла. Писал маслом и акварелью натурные пейзажи. Рисовал деревья, травы… И отправлялся на охоту. Впрочем, охота это не совсем точное определение того состояния, того действа, которое возникало при моем погружении в бескрайний мир природы с ружьем и собакой.
Порой ружье и не требовалось. В летние дни, когда наступало дивное время, и вечер встречал утро, я, прихватив своего гончака, отправлялся в лес.
Как-то с собакой по усадьбе идти было нескладно, и мы двигались от плотины по берегу Вори до места, где доживала свой век хижина мельника. Дальше оврагом поднимались к старой риге – любимому месту развлечений детей еще в мамонтовские времена, и полем, мимо теплицы, через заросли ольшаника выходили на проселочную дорогу, проторенную от деревни Жучки в сторону Артемова. В полукилометре слева в эту дорогу вливалась другая дорога от Абрамцева, а справа ее пересекал небольшой овраг. Отсюда и начиналась едва заметная тропинка, ведущая к заветной цели нашего похода.
Незаметно подобрался поздний летний вечер. За дальним еловым лесом скрылось вечернее солнце, и на темнеющем небе высветились и заиграли золотом легкие перистые облака. Над оврагом, вдоль которого мы пробирались, задымился едва приметный туман. Мелколесье, наконец, закончилось, и открылся мой любимый луг. Вроде бы обычное польцо, но мне виделось в нем что-то мое, для меня необъяснимо дорогое. С трех сторон его обрамляла череда старых дубов, властвующих над подлеском. Справа в кустарнике прятался овраг, за которым залегло огромное пшеничное поле, а слева за дубами, скрытая зарослями осинника, затаилась удивительно красивая еловая роща. Пушистые разлапистые ели росли там живописными купами и перемежались светлыми цветущими полянами.
На этом с детства любимом месте и должна была происходить нагонка Соловья. Впрочем, предстоящее нельзя было назвать нагонкой, то есть воспитанием необходимых охотничьих навыков у гончей собаки. Мой гончак, приобретенный через Охотничье общество, оказался далеко не первой молодости и, как выяснилось, хорошо знал свое дело. Так что речь шла о восстановлении физической формы к предстоящему охотничьему сезону.
На закраине луга у подножья одного из дубов-великанов я загодя подготовил место засидки. И сейчас на ложе, устланное еловым лапником и прошлогодними листьями, лишь добавил охапку ароматной нынешней травы.
Соловей, обретя свободу, скрылся у меня за спиной в чапыжнике из зарослей молодого орешника, черемухи и рябины. А я погрузился в свое «гнездо» с видом на любимый луг и замер в блаженном ожидании чуда.
Золотые облака погасли и в потемневшем небе появились первые звезды. Прохладный влажный воздух был наполнен замирающими звуками ночной жизни. Где-то, совсем рядом, в прошлогодней опавшей листве прошуршала мышь-полевка. Гудок паровоза долетел со стороны Хотькова и сменился далеким шумом проходящего товарного состава. Слева из потного туманного оврага доносился темпераментный лягушачий концерт. Дружно выводили свою нудную мелодию комары.
Неожиданно в ажурной вязи вертушек осин я увидел знакомый силуэт пролетающего вальдшнепа и даже расслышал его призывное хорканье. Пролет припоздавшего на пару месяцев длинноклювого жениха совпал с внезапно возникшим мистическим ощущение того, что кто-то внимательно за мной наблюдает.
Бух… Бух… Ух. Ух. Ух… прорезался у меня за спиной в кустах доносчивый лай Соловья. Четвероногий охотник вышел на наброды зайца и начал добирать косого.
Но кто этот таинственный наблюдатель? Я ясно чувствовал его присутствие. Не поворачивая головы, внимательно метр за метром осмотрел ближайшее пространство вокруг засид-ки. Никого! И вдруг, уже потеряв надежду обнаружить нарушителя спокойствия, прямо над головой увидел обращенные на меня огромные желтые светящиеся глаза. В ночных сумерках трудно было разглядеть, что это за страшилище. Его окрас полностью сливался с древесной корой. То, что это был гигантский филин, я понял лишь тогда, когда он огромной тенью бесшумно слетел с дуба и скрылся в лесной чаще.


