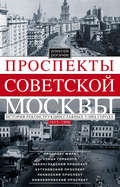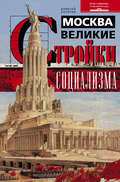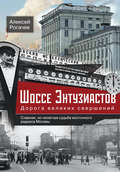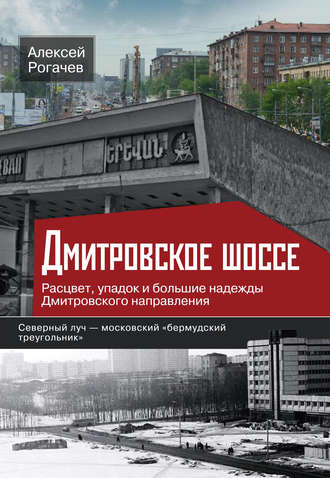
Алексей Рогачев
Дмитровское шоссе. Расцвет, упадок и большие надежды Дмитровского направления
Институт Ленина от Советской площади до Дмитровки
После долгого затишья, вызванного Первой мировой и Гражданской войнами, к середине 20-х годов строительная деятельность на Большой Дмитровке вновь оживилась. В 1926 году вошел в строй жилой дом под № 20 на углу Столешникова переулка. Его заложили еще в 1911 году по проекту архитектора К. Л. Розенкампфа, но строительство затянулось и затем и вовсе остановилось. Достраивали дом спустя полтора десятка лет. Времена были нелегкими, и перерабатывавший проект архитектор П. Кучнистов придал фасаду подчеркнуто аскетические, а вернее, скучноватые формы. Вдобавок четырехэтажный дом выглядел каким-то недомерком рядом с более высокими соседями. Недавно слишком «бедный» фасад «обогатили» отделкой керамической плиткой.
Еще одно конструктивистское творение появилось в самом конце улицы. Старинный особняк № 23 по заказу нового владельца – общества «Совпольторг» – надстроили двумя этажами, а заодно и переделали фасад в конструктивистском духе. Об этом можно легко догадаться по внешности дома: доставшиеся в наследство от старого особняка окна нижних этажей узкие, типичные для XVIII столетия, а над ними возносятся огромные оконные проемы надстроенной части. Типично конструктивистским приемом выглядит и сплошное остекление асимметрично расположенной лестничной клетки. Подобные надстройки были распространены в 20-х годах, и сегодня «двухслойные» дома можно увидеть на многих московских улицах.
Также подверглись переделкам дома № 15а и № 24. Но все же существенных перемен в облик Большой Дмитровки первые годы советской власти не принесли. Зато в непосредственной близости от нее выросло важное сооружение, которому спустя много лет суждено было дотянуться и до этой улицы.
Этим зданием стал Институт В. И. Ленина. Одно из первых научных учреждений советской Москвы строилось для хранения и изучения документов, связанных с наследием основоположников научного коммунизма. Место было расчищено путем сноса Тверской полицейской части, издавна стоявшей на площади напротив дворца генерал-губернатора (позже здания Московского Совета). Проект здания Института разработал архитектор С. Е. Чернышев. Строилось здание еще по старинке – без подъемных кранов, со сплошной стеной лесов, окружавших площадку, с доставкой кирпичей «козоносцами».
Тем не менее все работы были закончены в очень короткий срок, в течение полутора лет, и в конце 1926 – начале 1927 года здание уже было занято Институтом, став значительным событием для Москвы.
Институт Ленина представлял собой компактное, симметричное здание с небольшим внутренним двориком, состоящее из двух лаконичных объемов. Основной объем П-образного в плане корпуса имеет строго кубическую форму, состоит из четырех основных и цокольного этажей. С восточной стороны к зданию примыкает башня книгохранилища, изнутри поделенная на четырнадцать ярусов.
Монументальность крупных членений фасадов Института подчеркивала темно-серая декоративная цементная штукатурка с каменной крошкой. Главный фасад, обращенный на Советскую площадь, строг и симметричен. Внушительность зданию придали вертикальное членение пилястрами и четкие ряды окон. На аттике главного фасада была размещена шрифтовая композиция с названием Института.
В 1947 году перед ним был разбит сквер, в котором установили памятник В. И. Ленину.

Институт В. И. Ленина. Главный фасад. 1927 г.
Среди прочих помещений внутри здания располагалось бронированное хранилище, предназначенное для надежного хранения бесценных документов. Советское правительство заказало его у германского концерна Круппа.
Сфера деятельности Института постепенно расширялась. Помимо документов, написанных рукой В. И. Ленина, в него поступили и оригиналы работ К. Маркса и Ф. Энгельса, И. В. Сталина. В соответствии с этим менялось и название. Одно время Институт носил имена Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина, затем превратился в Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
Развивавшемуся Институту требовались новые площади, и в 70-х годах было принято решение о строительстве второй очереди. Несколько старых малоценных домов, стоявших в тылу Института, сломали, расчистив площадку, выходившую на Большую Дмитровку. После завершения работ в 1982 году весь комплекс протянулся от этой улицы до Советской площади. Четырнадцатиэтажная башня-хранилище оказалась замкнутой в пространстве между двумя – старым и новым – корпусами.
Проект второй очереди Центрального партийного архива был разработан коллективом, в который входили архитекторы Ю. Шевердяев, А. Маслов, В. Попов, инженеры Б. Шафран, И. Маркович, Н. Блитман[9]. Вышедший на Пушкинскую улицу фасад новой части здания был решен в строгих формах, согласующихся с творением С. Е. Чернышева. Входы в здание отмечают три высоких портала, в верхние части которых вставлены бронзовые рельефные портреты основоположников научного коммунизма – К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. С портретами Маркса и Ленина соседствуют выдвинутые ими лозунги: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Вся власть Советам!».
Первый проект реконструкции
К концу 20-х годов новые и старые, высокие и низкие дома размещались вдоль улицы хаотично. Проблема «вписывания в окружающую среду» никого – ни домохозяев, ни зодчих – не волновала. Над маленькими домиками поднимались многоэтажные громады, открывая взорам грубые брандмауэры. Там, где строения примыкали друг к другу, неприятно резала глаз разница в высоте этажей, из-за которой карниз одного дома буквально врезался в окно своего соседа. Сама же улица была узковатой, слишком тесной для нормального движения транспорта и пешеходов.
Поэтому, как только московские архитекторы стали задумываться не только над красотой фасадов отдельно взятых строений, но и об облике города в целом, возникло вполне естественное желание облагообразить центральные улицы. В их число попала и Большая Дмитровка.
Взгляды на архитектурное благообразие могут быть самыми разными, и в связи с этим любопытно ознакомиться с мнением на сей счет градостроителей начала 30-х годов. Прежде всего они озаботились повышением удобств для пешеходов. С этой целью проект реконструкции улицы предусматривал пробивку сквозных проходов в первых этажах домов № 6 (нынешнего Театра оперетты) и № 13, которые выступали за красную линию. Бывшую электростанцию (в то время гараж) вполне логично предлагалось снести (мнение, что мелкому, лишенному архитектурных достоинств зданию не место на центральной улице, было не лишено оснований, а история техники зодчих никогда особенно не волновала) и на его месте воздвигнуть гостиницу высотой в семь-восемь этажей. Она виделась планировщикам типично конструктивистской – с ленточными окнами, закругленными углами, без каких-либо декоративных деталей. Постановка ее в глубине участка позволяла создать перед ней небольшой сквер – место для отдыха на тесной улице. Соседний дом № 5 следовало надстроить с изменением фасада, чтобы он согласовывался с новым зданием. Солидные дома № 7 и № 9 подвергались минимальным переделкам – фасадам придавалась конструктивистская строгость. Зато относительно мелкие постройки № 11 и № 13 надстраивались на пару этажей. До высоты своих капитальных соседей они все равно недотягивали, однако надстройка позволяла несколько сгладить вопиющее различие в размерах.
Трехэтажный ветхий дом № 15 сносился, открывая вид на тыльный фасад Института В. И. Ленина, в 1927 году выстроенный на месте здания Тверской полицейской части. На освободившейся площадке создавался еще один сквер, а через ее северный угол прокладывался проезд от улицы к Советской площади – своего рода дублер Столешникова переулка. Стоявший за этим проездом дом № 15а подвергался капитальной реконструкции.
Странно выглядело предложение о закрытии Козицкого переулка. Казалось бы, в тесноте московского центра следовало беречь каждый дополнительный проезд, позволявший хотя бы слегка разредить толчею. Но градостроители обосновывали свою идею созданием единого массива крупных зданий от № 17 до № 23. В этот массив включались заново оформленное театральное здание (№ 17) и воздвигаемый на месте сносимой церкви жилой комбинат.
На правой стороне надстраивался дом № 4, причем его угловая часть решалась шестиэтажной башней с глубокими лоджиями. Преобразования соседнего дома № 2 ограничивались новым оформлением фасада. Безликое театральное здание № 6, помимо пробивки прохода в первом этаже, приобретало яркий конструктивистский облик благодаря вертикалям сплошного остекления по фасаду.
Полностью сносились мелкие постройки на участках № 8 и № 10. На их месте строились новые жилые дома. При этом предусматривалось некоторое расширение Кузнецкого переулка (ныне Кузнецкого Моста). В следующем квартале ликвидировались строения под № 18, прочие надстраивались и заново отделывались в духе конструктивизма.
Два последних квартала правой стороны рассматривались не столь подробно, видимо, у зодчих к тому времени еще не сложилось устойчивого мнения об их будущей судьбе[10].
Судьба великого плана реконструкции Большой Дмитровки оказалась схожей со всеми аналогичными идеями, которые во множестве возникали вплоть до принятия Генерального плана реконструкции Москвы 1935 года, но не подкреплялись никакими техническими, экономическими и эстетическими соображениями.
Из всего задуманного в жизнь воплотились всего четыре элемента – строительство жилого комбината на месте церкви, снос дома № 15 с раскрытием вида на Институт В. И. Ленина, реконструкция театрального здания № 17 и сооружение жилого дома № 21 с элементами обслуживания жильцов (своего рода жилого комбината).
Этот представительный дом на углу с Козицким переулком появился в 1935 году. Он предназначался для проживания работников Наркомата легкой промышленности, а спроектировали его архитекторы В. Н. Владимиров и Г. И. Луцкий – сотрудники архитектурно-проектной мастерской Наркомтяжпрома, возглавляемой П. А. Голосовым. Здание было типичным для переходного периода советской архитектуры, когда зодчие взялись оперативно оснащать чисто конструктивистские объемы только что спроектированных зданий «классической атрибутикой», имея о ней не всегда адекватные представления. О конструктивистском прошлом дома говорят такие детали, как глухое ленточное ограждение балконов третьего этажа, асимметрично выступающий в сторону переулка объем, завершенный глубокой лоджией – солярием. Зато рустованный цоколь, колонны лоджии, профилированные карнизы – дань времени, требовавшего большей декоративности новых домов, особенно в центре города. При всей противоречивости облика дом удачно вписался в общий фронт застройки Большой Дмитровки. Его стилистическое единство с соседним Театром имени Станиславского и Немировича-Данченко привело к возникновению на пересечении улицы с Козицким переулком интересного ансамбля, характерного для советской архитектуры 30-х годов.
Федерация федеральной федерации
Самая интересная и самая крупная постройка советской эпохи появилась на Большой Дмитровке значительно позже – спустя пятьдесят лет – на участке под № 26. В конце XIX века он принадлежал купцам братьям Ляпиным. Широкую известность в Москве они получили благодаря устроенному ими бесплатному студенческому общежитию. В глубине их домовладения стоял мрачный, напоминавший огромный ящик складской корпус. Его-то за ненадобностью купцы и приспособили для проживания неимущих студентов (проект перестройки выполнил гражданский инженер В. Г. Залесский). По фамилии благодетелей общежитие получило название Ляпинки. Лицевое здание, служившее особняком братьев-купцов, после революции приспособили под небольшой театр с залом всего на 400 мест. Театр получился тесный и неказистый, а потому творческие коллективы в нем не задерживались. Как только появлялась возможность, они перебирались в более подходящие помещения. Всего за пару десятилетий импровизированное театральное здание на Большой Дмитровке сменило нескольких хозяев. В начале 30-х годов в нем выступали актеры театра под руководством Симонова, затем сюда въехал Театр имени Ермоловой. После войны давал спектакли Театр имени Моссовета, а после его переезда на площадь Маяковского – цыганский театр «Ромэн».

Здание Академии архитектуры. 1935 г.
Наконец где-то в начале 60-х годов старое здание не выдержало постоянной нагрузки и начало потихоньку расползаться по швам. Цыганский театр пришлось срочно выселять, для него нашлось более просторное и удобное помещение – зал бывшего ресторана «Яр», в 1940 году перестроенного в клуб летчиков, а после войны включенного в комплекс новой гостиницы «Советская». Выбор новой театральной площадки оказался удачным и потому, что раньше цыганские хоры были непременным атрибутом того же самого «Яра».
А освобожденное здание на Пушкинской поставили на ремонт, который затянулся надолго – обветшавшие стены не хотели держаться, несмотря ни на что. В конце концов на старый особняк пришлось махнуть рукой, и его попросту сломали. Участок пустовал еще несколько лет, пока решалась его дальнейшая судьба, и лишь в конце 70-х годов на нем начало довольно быстро расти новое здание. Его хозяином стал Государственный комитет по строительству и архитектуре (Госстрой) СССР. Статус застройщика обязывал его ко многому – и в самом деле новостройка удалась во всех отношениях – как в плане архитектурного решения, так и по качеству строительных работ.
Место для нового здания было выбрано не случайно. Давным-давно, аж в 1884–1885 годах, крайне популярный в те годы, но не блиставший особыми талантами архитектор П. П. Зыков выстроил на соседнем участке (№ 24) двухэтажный особняк, в соответствии с господствовавшими тогда вкусами обвешанный причудливой лепниной. В 1931–1933 годах здание приспособили для размещения Московской городской контрольной комиссии и рабоче-крестьянской инспекции (МГКК – РКП). Его надстроили на два этажа и переоформили фасады. Сохранив классическую симметрию, дом утратил все внешнее убранство, приобретя взамен некоторые типично конструктивистские черты – угловые балконы с глухими ограждениями, сильные горизонтальные членения фасадов, завершающий парапет, скрывающий односкатную крышу.
Но вскоре контрольные комиссии и рабоче-крестьянские инспекции были преобразованы в комиссии партийного контроля, для которых нашлись более просторные и удобные помещения. А бывший особняк достался вновь созданной Академии архитектуры. Так что место имело прочные архитектурно-строительные традиции.
Авторы проекта нового здания – архитекторы И. Покровский, А. Саунин, Ю. Свердловский, конструкторы Б. Зархи, М. Тарасенко – вписали в тесный, неправильной формы участок крупный объем с многочисленными рабочими помещениями, сделав его при этом почти равным по высоте окружающим постройкам и обеспечив очень полезный на узкой улице отступ от красной линии. Справа к нему присоединили бывшую резиденцию Академии архитектуры, подвергшуюся очередной реконструкции, которая согласовала его внешность с представительным новоявленным соседом. Такой подход оказался вполне оправданным, ибо сей сосед оказался одним из лучших образцов московской архитектуры конца XX века.
Избежав соблазна вписывать свое творение в среду путем копирования декоративных мотивов прошлых веков, зодчие добились удачного согласования нового здания с прилегающей застройкой. Вместе с тем строгий и одновременно пластичный фасад, крупные членения, цветовое решение – серые панели, золотистое стекло и анодированный под темную бронзу алюминий – сделали дом Госстроя безусловной архитектурной доминантой всей улицы.
Под стать архитекторам сработали и строители. Стены здания собирались из панелей, изготовленных на заводе железобетонных изделий № 11. Мастерство проектировщиков проявилось не только в оформлении фасадов, но и в крайней ограниченности средств, с помощью которых был достигнут успех. Для решения достаточно сложного фасада потребовалось всего 12 типоразмеров панелей, офактуренных серой гранитной крошкой. Весомым достижением строителей стало и тщательное выполнение стыков между панелями, которые всегда были больным местом и безобразили многие неплохие сами по себе панельные дома в Москве. В здании Госстроя каждое сопряжение элементов тщательно обдумано и не менее тщательно осуществлено в натуре.
Тыльная сторона в противоположность строгости главного фасада имеет сильно изрезанные, прихотливые очертания, соответствующие расположению двух восьмигранных залов. Приятное впечатление оставляли интерьеры, выдержанные в коричневатых тонах. В отделке использовались мрамор, панели из ценных сортов дерева, анодированный металл. В общем, заказчик мог вполне гордиться своим новым помещением, ставшим неким эталоном качества, к которому следовало стремиться как архитекторам, так и строителям.
Но радоваться строительному руководству страны пришлось недолго. Грянули страшные события 90-х годов. Прекрасное здание облюбовал для себя новоявленный Совет Федерации – странное порождение «демократии». По сравнению с этим органом государственной власти, все члены которого назначаются, кажется демократичным даже Государственный совет Российской империи. Там, как-никак, лишь половина состава назначалась царем, другая половина была выборной.
На всю длину фасада протянулась смехотворная, достойная некогда популярной рубрики «Нарочно не придумаешь» в журнале «Крокодил» надпись: «Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации», начисто игнорирующая все правила стилистики русского языка. Недавно ее наконец убрали. Но радость по этому поводу была недолгой. Через некоторое время она воскресла в другой ипостаси – теперь она красуется над порталом главного входа. Что поделаешь, в малограмотной демократической России продолжают широко использоваться аналогичные уродливые языковые формы: «сельское поселение», «образовательное учреждение высшего образования», «учреждение Академии наук Биохимический институт» и тому подобные.
От трамвая до двух ног
«Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации» оказал крайне негативное влияние на транспортную инфраструктуру улицы. Невезучей Большой Дмитровке не повезло и в этом отношении.
А ведь вначале все складывалось совсем неплохо. Еще в 1905 году улица одной из первых в Москве обзавелась линией электрического трамвая. Московская администрация решила не беспокоить скрежетом и звоном трамвайных вагонов генерал-губернатора, обитавшего в доме, позже занятом Моссоветом. Поэтому трамвайные рельсы, ведущие к центру города по Тверской улице, на Страстной (ныне Пушкинской) площади резко сворачивали на Бульварное кольцо, оттуда на Большую Дмитровку, по которой и выходили на Охотный Ряд.
Трамвайные пути и опоры контактной сети загромождали тесную улицу сорок лет и были сняты в ходе масштабной модернизации транспортной сети города. В 1945 году дребезжащие вагончики сменились вальяжными троллейбусами. На Пушкинскую улицу перенесли маршрут № 3, который до того пролегал по параллельной Петровке.
Однако троллейбусное счастье продолжалось недолго. В начале 60-х годов в центре города начали вводить одностороннее движение. Одной из первых нововведением была затронута Пушкинская улица, по которой транспорт (в том числе и троллейбус) направлялся с тех пор лишь от центра к Бульварному кольцу. Движение же троллейбусов маршрутов № 3 и № 23 в направлении к центру вновь вернулось на Петровку. Одновременно была сокращена протяженность маршрута № 3, ранее следовавшего до Преображенской площади. Теперь его конечной остановкой сделалась площадь Свердлова (ныне Театральная). И совсем скверные времена наступили после того, как в бывшем здании Госстроя обосновался «Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации». Ортодоксальные демократы из его состава могли передвигаться только на персональных автомобилях, которые нуждались в свободном подъезде к зданию и местах для стоянки. Громоздкие троллейбусные вагоны мешали свободному передвижению «мерседесов» и «лексусов». Выход был найден простейший – троллейбусную линию вовсе упразднили. Оживленная, важная улица осталась без общественного транспорта – пожалуй, единственная среди радиальных магистралей центра Москвы.
Далее настала пора «благоустройства». Проезжую часть улицы сузили всего до двух полос, расширив тротуары до немыслимых, совершенно не нужных размеров. Почти полностью исчезли места для стоянки машин (за исключением, естественно, стоянки для «мерседесов» членов «Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации»), а немногие сохранившиеся постоянно заняты. Теперь приехать на бывшую Пушкинскую невозможно не только на общественном транспорте, но и на личном автомобиле. На жаргоне нынешнего руководства это называется «вернуть город людям».