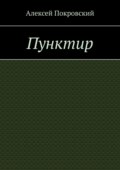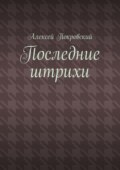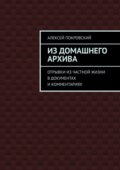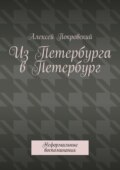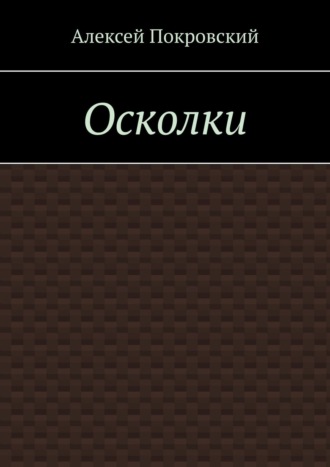
Алексей Покровский
Осколки
Городские странные люди
Одной достопримечательностью города был молодой изящный человек лет тридцати, часто встречающийся на Невском. Я забыл, как его звали. Как говорили он был цирковым акробатом. Как-то он неудачно упал и ударился головой. Я его часто встречал в книжных магазинах и магазинах грампластинок. Он перебирал грампластинки, раскладывал на разные кучки и все время что-то говорил сам с собой. Продавщицы его знали, и поскольку он был совсем безобидным, никогда не делали ему замечаний.
Также на Невском часто я встречал немолодого высокого неулыбающегося джентльмена. Он всегда был строго одет в чёрное, на его голове был чёрный котелок, на руках перчатки, в петлице – хризантема. Он спокойно шёл по улице, ни на кого не глядя и ни с кем не заговаривая.
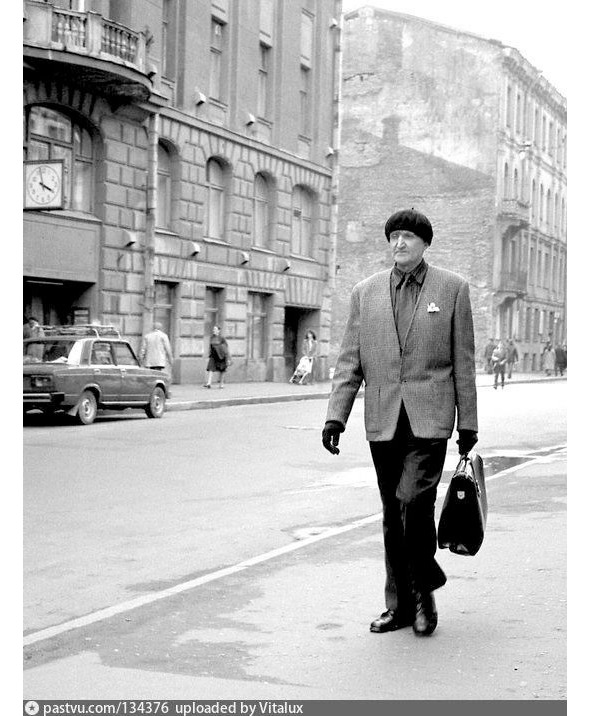
Фотография скопирована из интернета
И наконец в районе улиц Кирочной и Восстания в продуктовых магазинах часто появлялся молодой человек, который любил общаться с продавщицами. Внешне очень симпатичный, всегда ухоженный. Он мог поддерживать диалог. Если я не ошибаюсь, его родственники жили за границей. Они высылали деньги и какая-то женщина за ним ухаживала. Но возможно я и ошибаюсь.
В Мариинском театре я иногда встречал странно одетую немолодую женщину, в платье с оборками. Она кругами ходила по фойе и сама с собой разговаривала.
Неожиданные незнакомые гости
В нашем доме очень часто бывали гости – и знакомые, и знакомые знакомых, и пациенты моей жены Алены, и совсем незнакомые случайные люди. Вот об этих последних я и хочу рассказать.
Когда Алена работала в институте скорой помощи, она часто приходила домой очень поздно. И вот как-то она привела с собой пьяненького моряка. Он служил в Кронштадте, опоздал на катер (дамбы тогда не было) и ему грозили неприятности. Встретила его Алена в метро, ночевать ему было негде, и Алена пригласила его к нам. Он подумал, что это приключение, а когда пришёл в нашу коммунальную квартиру, то очень смутился. Мы напоили его кофе и уложили спать. Проснувшись, он бегал по комнате и причитал: «Ой, как стыдно!» Мы накормили его завтраком и отправили в Кронштадт. Больше его мы не видели.
А вот другой случай. Зимний морозный день. Алена с дочерью Катей поехали за город, я оставался дома. Ближе к вечеру домой вернулись мои домашние и привели с собой двух здоровых больших женщин лет 40 и хрупкую беременную на последней стадии женщину лет 18. Алена встретила их в электричке, и они разговорились. Оказалось, что все они из Юрги. Приехали навестить мужа беременной женщины, который служил в армии под Ленинградом, и ночевать им негде. Это оказались очень хорошие люди. Мы как-то у нас разместились, и они прожили у нас несколько дней. У них был очень интересный режим дня. Они налепили огромное количество пельменей, и мы вывесили их в мешке за окно, поскольку холодильника у нас не было, а зима была морозная.
Поскольку в Юрге купить сапоги и пр. было нельзя, а деньги у них были, они с утра брали такси, и весь день ездили по магазинам, где с переплатой скупали для себя и своих знакомых всякие вещи. Уехав, они несколько раз присылали нам поздравительные открытки, а потом связь прервалась.
А однажды, придя домой с работы, я застал там молодую незнакомую женщину, варящую борщ в огромной кастрюле. Её звали Римма, она была врачем, приехавшим из Горького на курсы повышения квалификации в институт им. Поленова, где работала Алена. Поскольку Римме не было где жить, Алена пригласила её к нам. Римма была прекрасным интеллигентным человеком, интересующимся искусством. Так что нам с ней было интересно общаться. Именно от неё мы узнали о Шнитке, о снимающемся фильме Тарковского «Зеркало», о диске лютневой музыки и др. Римма за время пребывания у нас стала как бы членом семьи – забирала Катю из школы, водила её на кружки, отпускала нас на кинофестиваль, который проходил в это время в городе. В другие дни она ходила в филармонию, в театры.
Через несколько лет я был в командировке в Горьком и зашёл к ней в гости. Она жила с мамой в небольшой квартире в Сормово. Больше мы не виделись.
Но вот благодаря ей я стал следить за выходом на экран фильма «Зеркало». Помню он шёл только в Москве в кинотеатре ВИТЯЗЬ. Я специально поехал в Москву, но это было перед первым мая и фильм на эти дни был заменён. Зато, когда его привезли в Ленинград, я пошёл в первый же день на первый сеанс. После этого я смотрел его много раз
2016
Автограф
Очень давно в «Лавке писателей» я увидел в продаже книгу знакомого писателя В.У. с теплой дарственной записью.
Книга недорогая, но мне стало как-то неприятно, что подаренную книгу пустили в продажу. Хоть бы вырвали форзац с надписью или хотя бы надпись зачирикали.
Поход на Север, или случайная встреча через тридцать лет
Каждый год летом моя жена, маленькая дочь и я брали с собой рюкзаки и отправлялись путешествовать. Чтобы не таскать тяжестей, брали с собой лишь самое необходимое: спальный мешок для дочери, минимум одежды для себя и минимум еды.
Выбор маршрута
У нас дома чудом сохранился альбом с фотографиями конца прошлого века «Виды Первоклассного Ставропигиального Соловецкого монастыря». Нам очень хотелось побывать в тех местах и сфотографировать примерно с тех же точек то, что стало с Соловецким монастырем. А поскольку во время путешествий мы обычно не проводили много времени на одном месте, то изучив карты выбрали следующий маршрут: Ленинград – Кемь (поезд), Кемь – Соловецкие острова (катер), Соловецкие острова – Архангельск (теплоход или самолет), вдоль Северной Двины до Котласа (попутные машины или теплоход), Великий Устюг и Сольвычегодск (поездки из Котласа) и, наконец, Котлас – Ленинград (поезд).
Начало пути
1973 год – год пожаров. Через Карелию поезд шел в сплошном дыму. Каково же было наше разочарование, когда на пристани в Кеми мы узнали, что Соловецкие острова с этого года закрыты для «неорганизованных посетителей».
Обаяв капитана катера «Мудьюг», мы все-таки попали на Соловецкие острова. Не буду описывать наше пребывание там, сейчас о Соловецких островах информации достаточно (хотя бы вспомним фильм М. Голдовской «Власть Соловецкая»).
Курьез – на танцах играл вокально-инструментальный ансамбль «Зосима», названный так в память об основателе монастыря монахе Зосиме.
Слайды получились. До сих пор мы показываем их гостям вместе с альбомом фотографий прошлого века. Несколько позже, когда я впервые познакомился с «Архипелагом ГУЛАГ» А.И.Солженицына по глушимым передачам BBC, я ярко представлял себе СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения), каким был Соловецкий монастырь раньше и каким он стал.
Дальнейшее путешествие – Архангельск, Малые Корелы, Ломоносовка и далее по Северной Двине до конечного пункта, куда ходят «Ракеты» – было без приключений. А вот дальше нас ждала неожиданность. Шоссе, которое (судя по карте) шло вдоль Северной Двины отсутствовало – существовала жуткая дорога, по которой не было не только регулярного автобусного сообщения, но даже попутки появлялись редко, т.к. дорога только строилась.
Продолжение
Просидев у дороги несколько часов, мы все-таки дождались попутной машины, которая шла в Сийский монастырь, расположенный к западу от Северной Двины и откуда пришли на Соловки основатели Соловецкого монастыря монахи Зосима и Савватий.
Монахи умели выбирать места для монастырей. Несмотря на полное разорение монастырь, стоящий в окружении озер производил неизгладимое впечатление. Кроме того, – тишина и отсутствие цивилизации. В окружении монастыря была расположена лишь небольшая деревушка. Мне кажется, что значительно позже я читал, что где-то в тех краях была обкомовская дача. Правда, может быть я и ошибаюсь. Ночевали мы у довольно своеобразного мужика – деда Гриши: небольшого роста, с очень хитрыми глазками. Поскольку он только что сложил печку, то отмечал это событие со своим племянником, как и полагается – пили до одурения. Это собственно и ускорило наш отъезд из этих прекрасных мест.
Дед Гриша рассказывал, что во время гражданской войны он вступил в армию белых, взял обмундирование и дезертировал, затем (когда пришли красные), вступил в армию красных, взял обмундирование и дезертировал. Позже его посадили. В то время, когда мы его встретили, он охранял рыбные богатства Сийских озер от браконьеров, т.е. сам ловил рыбу в неограниченных количествах и не мешал другим.
Через несколько дней на попутке мы доехали до городка Емецк, где решили на теплоходе ехать до Котласа.
Пристань в Емецке находилась примерно в трех километрах от городка, и идти надо было через поле. Поскольку теплоход был уже виден, мы почти бегом мчались к берегу Северной Двины. Наконец, пристань и теплоход перед нами, но… теплоход проходит мимо. Нам объясняют, что он останавливается дальше на расстоянии километра. Тут события стали развиваться, как в боевике.
Погрузив в оказавшийся на берегу мотоцикл с коляской жену, дочь и рюкзаки, я побежал вдоль берега к пристани, надеясь, что мотоциклист успеет вернуться за мной. Но тут появилась скорая помощь, которая меня подобрала, а навстречу ей уже мчался мотоциклист.
В последнюю минуту мы вскочили на теплоход, и затем путь до Котласа мы совершали в каюте II класса.
Знакомство
Дальнейшие события проходили на грани фарса. На следующее утро мы расположились на палубе и стали заниматься каждый своим делом: жена что-то шила, мы с дочерью читали. Поскольку этот большой теплоход был не туристский, пассажиров было очень мало. Среди немногочисленной публики выделялись два пассажира среднего возраста (один столичного вида, другой – провинциального), которые, разговаривая, бесконечно фланировали мимо нас.
Наконец, пассажир столичного вида не выдержал и подошел к нам, сказав, что он выделил нас из других пассажиров и хотел бы узнать о том, кто мы и какова цель нашей поездки.
Оказалось, что этот пассажир, будем называть его N – ленинградец, профессор высшей партийной школы, едет из Архангельска в Котлас, а поскольку «отцы этих городов» учились у него, то и принимают его везде по первому разряду.
Его же попутчик – докторант из Архангельска, чьим оппонентом являлся N и который страшно ему надоел разговорами о своей диссертации, провожал N до Котласа.
И вот жарким солнечным августовским утром наш теплоход прибывает в Котлас. У пристани стоит черная горкомовская «Волга» и рядом с ней мужчина средних лет в черном костюме, белой рубашке и галстуке (несмотря на жаркую погоду). Как оказалось, этому представителю горкома КПСС (который тоже учился в Ленинграде) было поручено принять N.
N был практически без вещей, у нас же – 3 рюкзака. N представил нас, как своих друзей, представитель горкома взял один из рюкзаков, и мы пошли к машине. До гостиницы было идти минут 10, но этот путь мы проделали на «Волге». Не прошло и нескольких минут, как нас поселили в номер, хотя в гостинице, естественно, мест не было.
Дальше лучше. После краткого отдыха, за нами зашли, и мы отправились к пристани, где нас уже ожидал горкомовский катер. В этот день мы отправились в Сольвычегодск осматривать достопримечательности.
Один из музеев – так называемый «Музей ссыльного революционера», бывший музей И.В.Сталина. Сам И. В. Сталин остался только «фотографией на белой стене». Я поинтересовался, куда делась экспозиция от старого музея. Экскурсовод указал мне на соседнюю избу и сказал, что на всякий случай вся экспозиция сохраняется там. А вдруг еще пригодится.
К вечеру мы вернулись в Котлас. Перед сном я зашел к N в номер, чтобы договориться о планах на следующий день. Он беседовал с высоким молодым человеком. Быстро договорившись, он дал понять, что мне не следует оставаться у него. Потом я узнал, что молодой человек был начальником УКГБ.
Следующий день мы посвятили поездке в Великий Устюг – на «Ракете» по реке Сухоне. Там нас встречала молодая женщина – представитель другого (Велико Устюгского) горкома КПСС, она и стала нашим экскурсоводом. Великий Устюг (в противоположность Котласу) нам очень понравился – ухоженный, отреставрированный, чистый. Однако, нам не повезло – в музеях города был выходной день. Но это полбеды, т.к. для нас музеи бы открыли, но музейных работников в этот день послали трудиться на поля, поэтому мы ограничились внешним осмотром. Что меня очень удивило так это то, что в церквях (правда, я не знаю во всех ли) расположились музеи и библиотека, а не склады, как это было принято.
Но зато нам удалось осуществить экскурсию на завод «Северная чернь», где мы прошли через большинство цехов и воочию убедились, какие прекрасные изделия делают наши умельцы в очень тяжелых условиях.
N оказался любителем пива, поэтому следующей достопримечательностью был старинный пивной завод, функционирующий еще с прошлого века. Пока мы дегустировали свежее пиво (а наша дочь свежий квас), нам рассказали детективную историю о похищении главного инженера этого завода.
В Котласе расположен современный пивной завод. Главного инженера Велико Устюгского завода долго приглашали переехать в Котлас. Однако он не соглашался. Однажды к нему приехали на машине, предложили большую зарплату, квартиру в Котласе, и он уехал с соблазнителями. Так поссорились два пивных завода.
После экскурсий нас повели обедать. Обед состоялся в отдельном зале лучшего ресторана Великого Устюга. Следует отметить, что за прекрасный обед мы платили сами; не помню сколько, но кажется совсем не много.
А теперь любопытное событие, которое имело некоторое продолжение. Идя по какой-то не мощеной улице Великого Устюга, N заметил, что-то металлическое, торчащее из земли. Поскольку это заинтересовало N, то он вместе с представителем горкома Котласа стал откапывать этот предмет, оказавшийся старинным утюгом с погнутой ручкой.
– Какой прекрасный подарок моему сыну ко дню рождения! – воскликнул N, – надо только выпрямить ручку. Вот это и было основным вопросом, который занимал N во все последующие дни.
И вот на следующий день мы отправились осматривать достопримечательности Котласа. Первый пункт – пивной завод, где мы познакомились с очень приятным (похищенным из Великого Устюга) главным инженером. Второй пункт – судоремонтный завод. Завод старый, руководство завода жаловалось на тяжелую жизнь, на невозможность выполнения плана и т. п. Беседа носила вялый, грустный оттенок. И тут N попросил руководство завода помочь ему выправить ручку утюга. Все сразу же оживились, поскольку появилась конкретная цель, которая может быть достигнута. Методом проб и ошибок, после нескольких попыток в разных цехах ручка была выправлена и утюг вручен довольному владельцу.
Из забавных событий запомнилось одно. Всю нашу делегацию, включая мою дочь, принимали в партбюро одного комбината. Над креслом секретаря парткома висел большой портрет К. Маркса.
– Ты узнала, кто это? – тихо спросил я дочь.
– Конечно, – обиженно ответила она, – это Короленко.
Настал день отъезда. Билеты на поезд нам достали через горком. Но в последний момент оказалось, что представитель горкома забыл взять детский билет для моей дочери, и ему пришлось прямо перед отходом поезда лезть сквозь толпу в кассу и брать билет.
И вот заключительный аккорд – отправляемся из гостиницы на вокзал. Начальник УКГБ берет мой рюкзак, я пытаюсь его отобрать, чтобы нести самому, но N меня останавливает.
– Пусть поносит, – говорит N.
Развязка
Поскольку до Ленинграда ехать долго, в разговорах выяснили, что лет тридцать назад, в конце войны мы с N один раз встречались.
Во время блокады я жил в квартире наших знакомых Ливеровских, поскольку она (квартира) была расположена ближе Ботаническому институту, где во время войны работала моя мама, и вот, когда в конце войны Ливеровские возвращались из эвакуации, им помогал молодой человек – сын их сослуживца.
– А кто Вам открыл дверь? – спросил я.
– Маленький мальчик, – ответил N.
– Так это я и был, – сказал я.
СЛУЧАИ
Месть
Лаборатория бионики. Соединенные вместе несколько подвальных квартир. Разновозрастный состав сотрудников различных специальностей (инженеров, биологов, врачей), связанных единой работой. Лаборатория находится далеко от alma mater – закрытого института, которому эта лаборатория принадлежит. Режим – свободный. Медики и биологи заняты своими проблемами и понятия не имеют о том, чем занимается институт. Отсюда, иногда возникают ситуации, которые не могли бы быть в режимных, чисто технических коллективах.
Для того, чтобы в лабораторию не заходили чужие люди, был взят вахтер. Работа вахтера чрезвычайно проста – здороваться со своими и не пускать чужих. Сперва вахтером служила симпатичная старушка-пенсионерка, и все было хорошо. Но вот после ее увольнения работать вахтером устроилась старуха, типичный представитель общественности при ЖЭКах, старый член партии, которая стала «бороться с дисциплиной», отмечать опаздывающих, а также постоянно докладывать начальнику лаборатории о поведении сотрудников.
Сотрудники роптали, но сделать ничего не могли. Поскольку старуха не переносила табачного дыма, стали курить в коридоре недалеко от ее стола. Это действовало, но не эффективно.
А я уже упоминал, что лаборатория находилась в подвале. И вот однажды летом самый ярый враг вахтера (молодой человек – биолог) вошел в лабораторию за несколько минут до начала рабочего дня, приветливо поздоровался и прошел в свою комнату. Затем вылез из окна на улицу и опять вошел в лабораторию, приветливо поздоровавшись. Такую манипуляцию он проделал несколько раз.
Старуха подумала, что она сходит с ума. Это переполнило ее чашу терпения, и через некоторое время пришлось брать нового вахтера.
Замечание от марта 2004 г. Эту историю я написал в 1990 г., а на днях увидел детский журнал «Ералаш», в котором был точно такой же сюжет. Консьержка не пускала в дом мальчика с собакой. Тогда девочка проходила мимо консьержки, здоровалась с ней, входила в лифт. Потом она спускалась по пожарной лестнице, опять проходила мимо консьержки и т. д. Когда консьержка упала в обморок, мальчик с собакой спокойно вошел в дом.
Происшествие
Директором института в то время был типичный представитель административно-командной системы, настоящий хозяин, небольшого роста, седой, властный, грубый, не терпящий возражений. А в лаборатории работала молодая мужеподобная женщина-врач, худая, высокая, с прокуренным хриплым голосом.
В одно прекрасное утро их пути пересеклись. По каким-то делам врач приехала в одно из подразделений alma mater. До начала рабочего дня оставалось минут пять. Вдруг в комнату этого подразделения вошел директор, притом один, без сопровождающих.
Что-то ему не понравилось, и он громко, матом стал отчитывать находящихся там сотрудников. Врач понятия не имела, что это директор института. Она подошла к нему и, смотря с высоты своего роста сверху вниз, сказала резким хриплым голосом:
– Ты что! Не проспался!? Не видишь, что здесь находятся женщины! Что ты с утра портишь всем настроение!
Все замерли от ужаса. Так разговаривать с директором никто не мог себе позволить. Директор от неожиданности лишился дара речи. Постояв несколько секунд, он молча повернулся и вышел из комнаты. Следует заметить, что этот инцидент не имел никаких последствий.
Секретарь парткома и Вольтер
Другая история с этой же женщиной. Для поступления в аспирантуру ей понадобилась характеристика. В семидесятые годы в режимных организациях считалось, что аспирантура это в некотором роде награда и поступать в нее, в основном, должны люди уже занимающие административную должность не ниже начальника сектора. Для остальных при поступлении в аспирантуру было необходимо преодолеть множество преград. Одна из первых – характеристика, подписанная директором, секретарем парткома и председателем профбюро. Так вот секретарь парткома не захотел подписывать характеристику этой женщине-врачу – во-первых, она недавно работала в этом институте; во-вторых, она не член партии; в-третьих, она не занимается никакой общественной работой; в-четвертых, она врач; и в-пятых, всегда лучше отказать.
Конфликт дошел до главного инженера. Разговор велся на повышенных тонах. В запале врач воскликнула:
– Плохо, когда несправедливы сильные мира сего!
– Как Вы смеете так говорить! – закричал секретарь парткома.
– Это не я говорю, это Вольтер, – парировала врач.
Немая сцена. На лице секретаря парткома мучительная работа мысли – кто такой Вольтер и можно ли соглашаться с его мнением.
Главный инженер – интеллигентный человек, улыбаясь, смотрел на секретаря парткома, но не приходил ему на помощь.
Конфликт был разрешен, характеристика подписана. Вскоре секретарь парткома стал директором другого научно-исследовательского института.