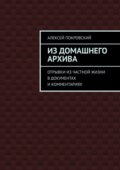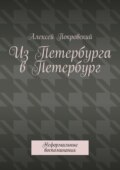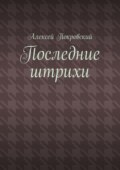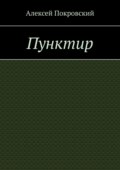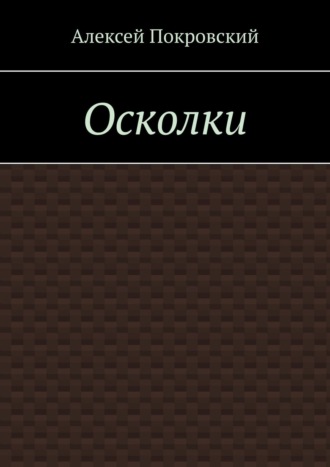
Алексей Покровский
Осколки
Казус
Но особенно памятен мне один концерт, на котором был и мой незнакомец. Конец августа 1968 года. В Ленинграде расклеены афиши – приезжает балет «Прага» из Чехословакии. Совершенно неожиданно для себя решаю пойти на него, оказывается это первое представление. В программе балет на музыку Яначека и «Некоторые попытки коллажа»; так, кажется, назывался второй балет. Труппа выступала в помещении Оперной студии Консерватории, публики было мало, большую часть составляли финские туристы.
Первое отделение – обычный модернистский балет на тему жизни человека от рождения до смерти. После антракта на просцениум вышел вместе с переводчицей представитель труппы и сказал примерно следующее:
– Мы хотим показать Вам экспериментальный балет. Это и шутка, это и серьезно. Мы шутим над тем, что нам дорого (например, над Чайковским), с другой стороны, это антиклерикальный, антифашисткий балет. Так, что не судите нас строго, не обижайтесь.
Открывается занавес. Никаких декораций, задник отсутствует, на сцене разбросан реквизит, артисты кто в чем бродят по сцене. Шумовое оформление – настройка радиоприемника, то речь, то обрывки музыки. Один молодой человек вышел на барьер, отделяющий оркестр от зала, и идет, балансируя из одного конца сцены в другой. Это продолжается довольно долго, зал настраивается благодушно – типичный хеппенинг, для нас это внове.
Вдруг раздаются звуки танца маленьких лебедей. Двое мужчин в пачках вывозят третьего на тачке, затем они начинают танцевать. Это уже смешно, зал смеется.
Музыкальное сопровождение резко меняется, раздаются звуки чешского национального танца, на сцену выбегают танцоры в национальных костюмах и начинается пляска. С этого момента все последующее идет в бешеном темпе.
Раздается автоматная очередь, один танцор падает, к нему бросаются на помощь. Девушка на авансцене льет из кувшина кровь. Музыка и действие на сцене калейдоскопично меняется, так что последовательно пересказать виденное невозможно. Здесь и зеки в полосатой одежде, и военные, и народ.
Все стало ясно – это отзвук на ввод советских войск в Чехословакию. Зал сразу раскололся на группы. Кто-то закричал:
– Безобразие! Прекратить!
Кто-то вышел, резко хлопнув дверью. Финны бешено аплодируют, остальные молча смотрят.
Самое неожиданное произошло в конце. Когда под аплодисменты артисты вышли раскланиваться, капельдинер вынесла корзину цветов. Ведь была-то премьера!!!
Что было непривычно, так это поведение зрителей в гардеробе. Все наши соотечественники молчали, никто не обменивался впечатлениями. Я вспомнил рассказ о премьере «Дракона» у Н.П.Акимова. Люди молча расходились, боясь, как бы их не увидели.
В тот же вечер я позвонил знакомым, чтобы на следующий день они пошли на этот балет. Но власти опомнились, и программа была изменена.
Краткая встреча с Ю. М. Лотманом
Когда-то давно я интересовался структурализмом и поэтому знал тартускую школу структуралистов, руководимую профессором Юрием Михайловичем Лотманом. Тогда они были не в чести у советских органов.
Однажды мой знакомый профессор из ЛИАПа, назову его М.Б., сказал между прочим, что в Ленинград приедет Ю.М.Лотман, и они встретятся.
А поскольку я люблю интересных людей, то попросил пригласить и меня на эту встречу.
Через несколько дней М.Б. позвонил мне и сказал, чтобы я срочно ехал к нему домой, потом мы заедем за Ю. М. Лотманом и поедем к сотруднице М.Б., преподавательнице ЛИАПа, с которой я был немного знаком по работе.
Я сорвался, мы взяли такси и заехали за Ю.М.Лотманом. Нам нужно было ехать через центр Ленинграда. Во время пути Ю.М.Лотман рассказывал о домах, которые мы проезжали, людях, которые там жили в XIX в. и пр. У него была удивительная речь – речь русского интеллигента XIX начала ХХ века. Он рассказывал о давно ушедших людях, как будто только что с ними расстался. Жаль только, что мы ехали не очень долго.
Наконец, мы приехали. Оказалось, что М.Б. поставил нас в очень неудобное положение. В этот день сотрудница М.Б. праздновала свое 50-летие, а мы явились без подарков.
Несмотря на это, все прошло прекрасно. Прошло уже много лет, я не помню, о чем конкретно мы говорили. Помню только, что и у хозяев, и у гостей осталось приятное воспоминание о встрече с таким замечательным человеком.
Полувстреча с К. Г. Паустовским
В 1963 г. мы с женой автостопом и общественным транспортом путешествовали по писательским местам Средней полосы России. Наш маршрут был такой: Ленинград – Орел – Спасское-Лутовиново – Таруса – Ясная Поляна – Мелихово – Москва – Великий Новгород – Ленинград.
Тогда Таруса был совсем захолустный тихий городок. Остановились мы в местной гостинице – маленькое двухэтажное здание с общими номерами человек на 10. Гостиница не была заполнена.
За день до нас сюда приехала из Ленинграда девушка-филолог. Если я не забыл, студентка Университета. Она сразу сообщила, что хочет зайти в гости к К.Г.Паустовскому и оставила ему записку, хотя на калитке у его дома висело объявление с просьбой не тревожить его, поскольку он болен. Тогда ему был 71 год.
В то время К.Г.Паустовский был кумиром вольной интеллигенции. Именно тогда, кажется, был выпущен альманах «Тарусские страницы», который был разруган официальной прессой за свободомыслие и публикацию запрещенных до этого писателей.
Девушка, к моему удивлению, спросила меня, что К.Г.Паустовский написал в последнее время. Вот вам и филолог. Я ее просветил, т.к. читал все, что К.Г.Паустовский публиковал.
В этот момент я перезаряжал свой старенький фотоаппарат «Смена». Вдруг к гостинице подъехала машина, из нее вышла большая грузная женщина. Она поднялась в наш номер и спросила, кто хотел встретиться с К.Г.Паустовским. Это оказалась его жена.
Я вышел на балкон и увидел в приоткрытую дверь машины Константина Георгиевича. К сожалению, я не смог его сфотографировать.
Филолог в этой машине поехала на дачу к К.Г.Паустовскому. Вечером она вернулась, но ничего интересного рассказать не могла. Ей был важен только факт посещения К.Г.Паустовского.
Ну а мы с женой, конечно, постеснялись пойти к К.Г.
Шутка
Конец шестидесятых годов. Я работаю в лаборатории, занимающейся вопросами бионики. Наши подопытные животные – речные раки. Уже ставшая привычной шутка посетителей лаборатории – это употребление объекта эксперимента с пивом. Сотрудники лаборатории уже привыкли к этой шутке. Однако начальника лаборатории, назовем его N, эта шутка коробит.
Однажды N сообщает мне, что должен быть снят научно-популярный фильм о бионике, и к нам в лабораторию приедут режиссер и писатель. На следующий день беседа состоялась. После официальных разговоров я пригласил писателя к себе домой, и мы продолжали беседу уже в непринужденной обстановке. Писателем оказался Игорь Губерман, в то время известный автор научно-популярных произведений, а в дальнейшем автор «Гариков».
Разговор затянулся и перешел в обычную беседу, которую вела интеллигенция в те годы. Кстати именно от него я впервые узнал об Орвеле, а затем вскоре и прочитал его.
Прошел год или полтора. Об Игоре я ничего не слышал и вдруг встречаю его на Невском. Несколько раз прошли мы от Адмиралтейства до Московского вокзала. Естественно, я поинтересовался, как дела с кинофильмом.
– А разве Вы не знаете? – спросил он.
– Нет – ответил я.
Вот, что он рассказал.
«Фильм не состоялся, благодаря моей неудачной шутке. Разговаривая с N, я похвалил удачный выбор объекта исследования. N подтвердил это, сказав, что выбору объекта было посвящено много усилий, т.к. объект должен с одной стороны, иметь сложную нервную систему, а с другой стороны, удобным для экспериментов.
Да нет, – говорю я. – Я другое имею в виду. После экспериментов Вы можете своих подопытных съесть. N изменился в лице, передал меня своим помощникам и ушел. Я стал работать над сценарием. Когда сценарий был готов, я вынес его на обсуждение в редсовет. В качестве рецензента был приглашен N. Каково же было мое удивление, когда N разнес сценарий в пух и прах (несмотря, что он был одним из инициаторов создания фильма).
Это было время после процесса Синявского и Даниэля, после погромного выступления Шолохова на съезде писателей.
В страстном монологе N было все: ссылки на речь Шолохова, призыв к бдительности, характеристика личности автора; т.е. все кроме обсуждения сценария. За этим последовал сокрушительный вывод – таким, как я нельзя поручать столь ответственные задания.
Вначале я не понял, почему мой безобидный сценарий вызвал такую отповедь. И только подумав, я сообразил: причина – моя неудачная шутка»
Жив Михал Михалыч!
Вот значит все куда-то ходят: кто на митинги, кто в церковь, кто в суд, кто в Дом кино. Вот и мне как-то приятель говорит: «Пошли в Дом писателя, там будет вечер знаменитого писателя Михаила Михайловича Зощенко. Узнаем чего-нибудь про Зощенко, на культурных людей посмотрим.»
– Ладно, – говорю, – пошли. Все равно вечер уже, да и делать нечего.
А надо сказать, было начало лета, и как я узнал позже Дом писателя закрывался – писатели уходили в коллективный отпуск.
Повязал я, как интеллигент, галстук, почистил ботинки и пошел в Дом писателя. Первым делом побежал занимать себе место. В первый ряд сесть постеснялся – сел во второй. Стал озираться, интересно посмотреть на живых писателей. Смотрю народу в зале немного, и сидят все не рядом, а кучками. Само собой, никого не узнаю – писатели ведь не артисты, портретов их не продают.
Смотрю на сцену – стоит маленький столик и ряды стульев, как для президиума. Наконец, на сцене появились люди, и вечер памяти Зощенко начался. Ведущий, как в таких случаях и полагается, сказал несколько прочувствованных слов. Сообщил, как все мы любим и почитаем Михаила Михайловича, а также намекнул, что здесь присутствуют люди, которые Зощенко хорошо знали, а также и его внук, и указал на довольно молодого, но очень крупного по размерам человека, от которого исходило такое амбре, будто он вылил на себя несколько флаконов одеколона, либо выпил его для храбрости.
Ну, в начале все шло, как обычно. Гласность только еще начиналась, и ведущий сказал, что сейчас мы услышим уникальные воспоминания бывших сотрудников журналов «Звезда» и «Ленинград», встречавшихся со Сталиным, Ждановым и другими членами Политбюро перед принятием известного постановления об этих журналах. Конечно, они рассказали очень интересные истории. Я, например, не знал, какими бутербродами кормили писателей перед совещанием. Однако, два участника этого совещания не могли никак договориться, кто из них съел больше бутербродов – ведь столько лет прошло!!!
А потом дали слово писателю-юмористу, так его обозвали. Я приготовился смеяться, но никак не получалось. Он очень серьезно рассуждал, какое издание Зощенко в одном томе или в трех томах лучше и вообще о природе зощенковского смеха. Людям, сидящим в зале тоже было никак не рассмеяться, и они стали покрикивать на выступавшего. Тот обиделся и спросил:
– Что же Вам не интересно?
– Нет, – закричали из зала.
– Ну, тогда я кончу, – сказал он и ушел, нахмурившись, на свое место.
Ведущий был не промах. Он понял, что нужно спасать положение и быстренько попросил выступить внука Михал Михалыча Зощенко, сказав при этом, что тот нам может рассказать много интересного про своего дедушку.
Внук Зощенко, бывший моряк, сразу взял быка за рога. Он поставил нас в известность, что живет в двухкомнатной квартире и не нуждается в жилплощади, но готов переехать в квартиру своего дедушки, если там будет музей, и согласен быть директором этого музея. То ли от волнения, то ли от чего-то другого внук никак не мог сойти с этой темы и продолжал бесконечно повторять одно и то же. В зале раздался ропот. Какой-то возмущенный писатель крикнул:
– А когда в последний раз Вы были на могиле дедушки, она ведь в безобразном состоянии?
– Вчера, – ответил внук и продолжал говорить, что он живет в двухкомнатной квартире.
Ведущий, видя, что назревает скандал, сказал:
– Ты лучше расскажи нам о дедушке.
– А я о дедушке и говорю. – сообщил внук.
– Ну, тогда ты расскажи нам, каким скромным и непритязательным был дедушка, как он спал на железной кровати и накрывался солдатским одеялом.
– Офицерским, – возмутился внук. – Дедушка жил очень скромно, спал на железной кровати и накрывался офицерским одеялом. У него не было почти никакой мебели. Но зато у бабушки…
И воодушевившийся внук стал расписывать шикарный белый мебельный гарнитур, какой был у бабушки в комнате.
Теперь уже разразился скандал, из зала кричали: «Хватит! Долой!», ведущий пытался остановить внука, тот, вцепившись в микрофон, продолжал говорить одно и тоже.
Все-таки ведущий победил, объявив, что сейчас самое время послушать рассказы Зощенко в исполнении актрисы К. Ампиловой. Зал как-то сразу умиротворился и приготовился слушать.
Мы с товарищем сели поудобней. К. Ампилова профессионально стала читать рассказ про то, как немецкий специалист, уехав из коммунальной квартиры оставил баночку с чем-то. При этом рассказ написан так, что Зощенко до самого конца не говорит с чем эта баночка. Я, конечно, сразу догадался, что это то ли средство от тараканов, то ли от клопов.
И вот, К. Ампилова приближается к тому месту рассказа, когда нужно произнести, что находится в баночке. В этот момент времени, полноватый писатель, сидевший, развалясь, в первом ряду громко сказал:
– От клопов.
К. Ампилова, которая стояла прямо над ним от неожиданности вздрогнула и замолчала. Увлеченная чтением, она не расслышала, что сказал, слушатель. Подумав, что что-то случилось, она спросила:
– Что?
– От клопов, – сказал догадавшийся писатель.
Возмущению К. Ампиловой не было предела.
– Я выступала в различных залах, на заводах, – возмущалась она, – но с таким бескультурьем встречаюсь впервые. И это писатели!
Собравшись с силами, она докончила чтение.
После этого вечер покатился спокойно и закончился показом отрывков из фильмов по сюжетам Зощенко.
Придя домой, я в лицах рассказал об этом вечере. Домашние очень смеялись. Жаль, что Зощенко уже умер. Как здорово он мог бы описать этот вечер!
Эпилог. Вскоре после этого вечера умер ведущий. Писатель, участвующий в заседании со Сталиным и Ждановым, опубликовал в печати свои воспоминания об этом. Эти воспоминания подверглись жесткой критике писателей, их родственников и друзей.
Добавление 10 августа 1994 г.
Заметка из газеты «С.-Петербургские ведомости»:
«Вчера в день 100-летия со дня рождения Михаила Зощенко, на доме по каналу Грибоедова, 9 в котором писатель жил с 1934 по 1958 год, была установлена мемориальная доска.
Церемонию открыл директор литературно-мемориального музея Михаила Зощенко Кирилл Кузьмин. Памятный барельеф представила собравшимся Ида Исааковна Слонимская, вдова известного писателя Михаила Слонимского. С Зощенко их связывала преданная дружба.
На открытии церемонии выступили исследователь творчества Зощенко Юрий Томашевский, писатель Михаил Чулаки, Елена Юнгер и Михаил Козаков, знавшие Зощенко артисты Николай Трофимов, Игорь Кашинцев и автор барельефа – скульптор Владимир Горевой.»
Все, кажется, хорошо, но и на этот раз не обошлось без курьеза. Все было готово к открытию. Но в последний момент, оказалось, что мемориальная доска находится у скульптора, а скульптор в отъезде. Тогда решили отменить торжественное открытие мемориальной доски, хотя уже об этом сообщили средства массовой информации. Однако, в последний момент скульптор приехал и все прошло, как было задумано.
Из мимолётных встреч – Татьяна Ивановна Лещенко-Сухомлина (1903 – 1998)
Очень часто в жизни встречаешь интересного человека, поговоришь с ним, а затем он исчезает из твоей памяти, если ты случайно не встретишь где-нибудь упоминание о нем.
Так недавно у меня всплыла в памяти встреча с Татьяной Ивановной Лещенко-Сухомлиной. Я встретил её в 80-е годы, когда ей было 90 лет или где-то недалёко от этого. Это был её визит в Ленинград.
О ней скажу только несколько слов. Она была из дворянской семьи, после революции эмигрировала, получила несколько высших образований. Кем только не работала – ассенизатор, певица, переводчица, актриса и др., много раз была замужем.
Она была знакома с Сименоном, переводила его романы. В её переводе вышел роман У. Коллинса «Женщина в белом».
В 30-е годы вернулась в СССР, конечно, её не миновал лагерь. Кстати, в «Архипелаге ГУЛАГ» её упоминает Солженицын.
О её жизни можно говорить много, но её биография есть в Википедии.
Итак, я встречался с Т. И. дважды – однажды у себя дома (её водили от одних компаний в другие), а второй раз у своего знакомого. Т. И. была звездой этих вечеров. У неё была светлая голова, прекрасная память. Она говорила, не останавливаясь, вспоминала встречи с интересными людьми, дребезжащим старческим голосом пела под гитару (это звучало ужасно). Несмотря на это она выпустила музыкальный диск.
Она спросила меня: «А Вы бывали в Швейцарии? Обязательно побывайте там, там так красиво, но нужно ехать на поезде».
А в то время я не мог выехать не только в Швейцарию, но даже в Болгарию.
Уже значительно позже я увидел кусочек документального фильма, где Т. И. гуляет по парку с Анастасией Цветаевой, ведя «светскую» беседу.
Есть книга её воспоминаний – «Долгое будущее» – но я её не читал. А надо бы.
2015
Михаил Куни
В послевоенные годы в Ленинграде было очень много стендов с газетами и рекламами театральных спектаклей и выставок. Я с детства привык читать все «буквы», которые видел.
Вот мне и запомнилась афиша с портретом, где было написано Михаил Куни «Психологические опыты».
Я уже знал, кто такой Михаил Куни, и как-то пошёл на его выступление.
Михаи́л Ку́ни (другие сценические псевдонимы Ганс Куни-Пикассо, Ганс Куни; (1897—1972) – цирковой и эстрадный исполнитель, художник, ученик Марка Шагала и Роберта Фалька.
В цирке и на эстраде он специализировался на психологических опытах, идеомоторной телепатии, быстром счёте, сеансах гипноза.
Поскольку Куни жил в Ленинграде, то выступал он намного чаще, чем Вольф Мессинг. Программы их были очень похожи, но Куни не вносил в них никакой таинственности и мистики. Он объяснял все, что делал чисто своими способностями и тренировкой.
Например, на трёх досках один из зрителей (не подставной) писал цифры, затем доски вращались. Куни на несколько секунд поворачивался, смотрел на них и затем говорил, какие цифры там написаны и их сумма.
Также он запоминал множество слов.
Однажды его пригласили к ученым и попросили запомнить набор слов (порядка 40). Он согласился. Но слова оказались латинскими, а этого языка Куни не знал. Несмотря на это, он назвал все слова правильно.
Или такой известный опыт. В зале у кого-нибудь прятался какой-либо предмет. Куни брал некоторого зрителя за руку, просил этого зрителя думать об этом предмете и шёл в зал. Там он порывисто ходил по залу и наконец находил этот предмет.
Я часто встречал Куни на улице или в книжных магазинах. Один раз я открыл дверь книжного магазина, а с другой стороны эту дверь открыл Куни. Наши глаза встретились. Мне стало как-то не по себе. Его взгляд пронзил меня насквозь.
Позже с подобными опытами стал выступать Лев Бендиткис. Он жил недалёко от меня, поэтому я часто встречал его на улице, но на его выступления я не ходил.
Неожиданная мимолетная встреча
Наш приятель писатель Михаил Чулаки время от времени приглашал нас на какие-нибудь интересные мероприятия в Дом писателей, Дом кино или другие места. И вот однажды он пригласил нас на концерт в дом графини Паниной. Правда, не сказал, что там будет. Мы встретились с ним и каким-то мужчиной по имени Витольд.
Однако концерт отменили, и Витольд предложил зайти к нему домой. Он жил, кажется, на Стремянной улице или где-то рядом. Квартира оказалась очень большой и какой-то неухоженный. Было впечатление, что она ни разу не ремонтировалась после 1917 г.
Витольд стал показывать нам квартиру. Удивил один зал (не комната), в котором в регулярном порядке было уставлено много одинаковых столов. Витольд объяснил, что здесь собираются игроки в бридж. Несмотря на то, что в СССР бридж был запрещён, бриджисты собирались здесь, играли профессионально, устраивали соревнования. На книжных полках (или шкафах, точно не помню) находилась большая библиотека по бриджу.
После разговоров о бридже Витольд рассказал нам о другом своём интересе – музыке то ли до 15, то ли до 17 века. Более поздняя музыка его не интересовала. Он собирал виниловые диски с музыкой этого времени. Хранилище (аудиотека) представляла собой стеллажи высотой почти до потолка (4 или 5 м), разбитые на ячейки. В каждой ячейке хранился только один диск – чтобы диски не давили один на другой. Все диски были зарубежными.
Наступил вечер, и в квартире стали собираться какие-то странные люди. Одной из первых пришла худенькая невысокая молодая женщина. Она как-то все время держалась в стороне, стараясь быть незаметной. Мы перешли в небольшую кухню. Женщина, назвавшись Ириной, приготовила кофе, на столе появилась бутылка сухого вина. Народ все приходил. Все они пришли играть в бридж. Чтобы не мешать, мы распрощались и пошли домой.
По дороге домой мы спросили Мишу, где это мы были. Тут он нам и сказал, что мы были у Ирины Левитиной – это и есть хозяйка квартиры, а Витольд – ее бой-френд.
Ирина Левитина (род.8 июня 1954) – американская, ранее советская шахматистка. гроссмейстер (1976), четырёхкратная чемпионка мира по бриджу. Претендентка на звание чемпионки мира по шахматам среди женщин. Четырежды участник чемпионата мира по шахматам.
Чемпионка СССР по шахматам – в 1971, 1978 (совместно), 1979, и 1980/81. Её не взяли играть в 1979 году на межзональный турнир среди женщин в Рио-де-Жанейро, потому что её брат репатриировался из СССР в Израиль.
После эмиграции в США Ирина Левитина была чемпионкой США по шахматам в 1991 (совместно), 1992 и 1993 (совместно) годах.
В настоящее время Ирина Левитина постоянно играет в бридж. Она пять раз завоевывала чемпионский титул среди женщин и многократно становилась национальным чемпионом США. По данным на апрель 2011 года Ирина Левитина занимает третье место среди женщин – гроссмейстеров бриджа во Всемирной Федерации Бриджа
То, что я пишу ниже – нужно считать апокрифом. Возможно меня подводит память. Витольд (родом из Молдавии) работал на киностудии «Ленфильм» бутафором. Он ввязался в какую-то финансовую авантюру и задолжал кому-то огромную сумму денег. В результате после эмиграции Ирины он вынужден был продать эту большую квартиру, которую ему оставила Ирина, но все равно не смог разделаться с долгами. Поэтому он куда-то исчез и Михаил Чулаки больше о нем ничего не знал.