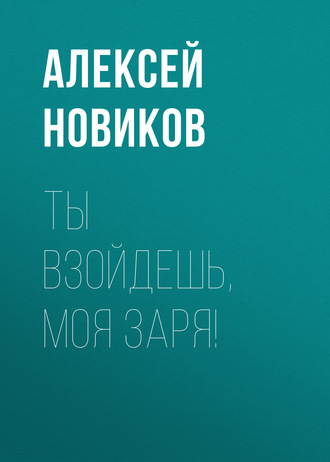
Алексей Новиков
Ты взойдешь, моя заря!
Глава шестая
В просторной, отделанной мореным дубом столовой Марьинского барского дома стол накрыт для завтрака на тридцать приборов.
Давно пробил колокол, сзывающий гостей и домочадцев, и все они давно собрались, но никто не садится за стол. Никто не смеет нарушить благоговейной тишины. Только очень нетерпеливый гость бросит украдкой взор на двери, ведущие в апартаменты хозяйки Марьина, княгини Голицыной, и снова замрет в томительном ожидании. Даже Фирс Голицын, попав в эту столовую, стоит молча, будто присутствует на торжественном богослужении.
– Доколе будет продолжаться сия пантомима? – тихо спрашивает у Фирса Глинка.
– Терпение! – шепчет ему Фирс. – Завтракать у grande-mère[15], конечно, скучновато, зато какой здесь театр…
Фирс не успевает закончить и снова замирает в почтительной позе. За дверями слышатся голоса, двери в столовую широко распахиваются.
– Их сиятельство! – возглашает дворецкий.
В столовую вступает целое шествие. Две старухи приживалки, пестро разряженные, встают по бокам двери и приседают в низком поклоне. Две особы неопределенного возраста идут во второй паре и тоже приседают на ходу, непрестанно оборачиваясь к княгине.
Сановная властительница Марьина, постукивая костылем, медленно выступает среди свиты. Голова ее трясется при каждом шаге; лицо, оттененное заметными черными усами, поражает мертвой желтизной. Сиятельную старуху можно принять и за восковую раскрашенную куклу и за ночное привидение, а еще более – за покойницу, восставшую из гроба.
Шествие движется по столовой. Среди этого скопища старух вдруг расцветают, как цветы на могиле, юные воспитанницы княгини. Их подневольная юность еще больше подчеркивает надменную спесь полумертвой старухи.
Фирс Голицын почтительно склоняется перед княгиней и представляет своих приятелей.
– Кто таков? – глухим, отрывистым голосом восклицает старуха, не разобрав фамилии Глинки, и голова ее начинает усиленно трястись.
Фирс громко повторяет, но княгиня не проявляет более интереса к собственному вопросу. Ее поспешно усаживают в золоченое бархатное кресло.
Столовое серебро и хрусталь ослепительно сияют на белоснежной скатерти. Бритые лакеи бесшумно передвигаются вокруг стола. Седовласый дворецкий невидимо дирижирует этой симфонией, в которой слились воедино игра солнечных лучей, пышные краски костюмов, уродливый грим приживалок и аромат сменяющихся блюд. Но именно здесь надобно ввести существенную поправку в изысканную симфонию. Кушанья, подаваемые к столу кавалерственной дамы пяти царствований, свидетельствовали не столько об искусстве поваров, сколько о чудовищной скаредности княгини. Может быть, только эта неутоленная страсть и поддерживала жизнь в ее полумертвом теле: завтрак был попросту плох, если говорить правду.
– Ну, выпьем кваску, коли нет вина, – говорил, вздыхая, Феофил Толстой.
Молодежь, сидевшая на дальнем конце стола, выпила квасу из хрустальных бокалов, добродушно посмеиваясь. Едва этот смех долетел до княгини, она сердито ударила о пол костылем, а голова, украшенная пышным чепцом, затряслась еще сильнее, не то от гнева, не то от немочи.
Молодежь утихла. Фирс Голицын продолжал шепотом развлекать приятелей:
– Обратите внимание на ту плутовку, что стоит слева от кресла княгини. Клянусь, эта лукавая скромность сулит рай счастливцу.
Воспитанница, о которой шла речь, поймала красноречивый взгляд молодого человека и вспыхнула. Чтобы не выдать себя, бедняжка низко склонила голову.
Завтрак, похожий на пиршество в паноптикуме, продолжался. Среди гостей княгини были изъеденные молью титулованные старички, доставлявшиеся в Марьино для летнего увеселения сиятельной хозяйки Марьина. Здесь, на лоне природы, они составляли приличное общество за трапезой, а вечером приглашались к карточному столу.
Карты! Когда-то они были страстью красавицы. Теперь для полуслепой старухи изготовляются на петербургской фабрике особые колоды. Теперь она выигрывает у титулованных теней прошлого не более пяти рублей ассигнациями за целый вечер, а проиграв пятиалтынный, сердится и не платит.
Глинка, слушавший рассказы Фирса Голицына, приглядывался к княгине, пытаясь угадать, что же оставило былой красавице безжалостное время.
А старуха, приподнявшись в кресле, вдруг вытянулась во весь рост и стала еще более похожа на привидение. Даже костыль ее ударил о пол таинственно и приглушенно. Церемониальный завтрак был окончен.
– Теперь мы свободны! – радостно возвестил приятелям Фирс, и молодые люди удалились в отведенные им комнаты.
Лакей Голицына внес дорожный погребец. За стаканом вина молодые люди вздохнули с облегчением.
– Зачем ты привез нас сюда, Фирс? – спросил Глинка.
– Нет, ты никогда не сделаешь карьеры в большом свете, – рассмеялся Голицын. – Тебе известно, что сам император посещает княгиню?..
– И одно ее слово может составить счастье целой жизни! – подхватил Феофил Толстой.
– Пожалуй, – согласился Фирс, – а я безрассудно манкирую визитами к старухе. Но, завезя вас сюда, наверняка убью двух, если не более, зайцев.
– Каких зайцев? – откликнулся Штерич.
– Извольте слушать, – Голицын прихлебнул из бокала. – Я напоминаю о себе княгине и пользуюсь случаем поволочиться за ее воспитанницами. Наконец, друзья мои, в Марьине существует прелестный театр, и мы дадим великолепное представление.
– И о нем будет говорить весь Петербург! – с восторгом подтвердил Феофил Толстой. – Можно ли приобрести большую славу, нежели концертируя у княгини Голицыной?
– Неужто она еще посещает театры? – удивился Глинка.
Эта мысль показалась Фирсу до того нелепой, что он залился смехом.
– Единственное зрелище, которое удостоит своим посещением ее сиятельство, будут собственные похороны. Однако осушим бокалы – и к делу!
Придворные певчие, захваченные из Петербурга предусмотрительным Фирсом, ожидали в театре. Этот домашний театр оказался изящной бомбоньеркой, отделанной бархатом и позолотой. Маленькая сцена была оборудована всем необходимым.
Глинка вышел на сцену и глянул в полутемный зал. О том ли он мечтал? Велика честь – услаждать приживалок сиятельного привидения!
Между тем репетиция началась. Глинка долго возился с певчими, проходя с ними хоры из «Севильского цирюльника». Потом взялся за Феофила Толстого, который должен был изображать графа Альмавиву. Фирс Голицын, превратившийся в придурковатого синьора Бартоло, опекуна Розины, доставил Глинке большое удовольствие безупречной музыкальностью и жизненной игрой. Кроткий Штерич, сидя за роялем, удовлетворял всем требованиям взыскательного маэстро. Репетиция шла великолепно до тех пор, пока не исчез куда-то не в меру проворный опекун Розины. Фирс явился только к обеду, а потом предложил друзьям прогулку по имению.
На почтительном расстоянии от барской усадьбы стоял большой двухэтажный дом.
– Здешняя прославленная школа, – мимоходом объяснил Голицын. – Неужто не слыхали? В Петербурге о ней кричали на всех перекрестках.
– Сделай милость, расскажи! – попросил Штерич.
– Э, нет! – отмахнулся Голицын. – Эта история мне оскомину набила. Кому угодно, идите туда и сами просвещайтесь.
Штерич повернул к школе. Глинка последовал за ним.
В марьинской школе обучали крепостных людей, набранных со всех голицынских имений. В этот «университет» принимались парни и девушки, знающие грамоту. Из мужчин готовили барских управителей, приказчиков, камердинеров, даже бухгалтеров. Низшее отделение школы, как гласил наказ, выпускало «сведущих хлебопашцев и добрых ремесленников». На женском отделении обучались рачительные ключницы, камеристки, швеи и поварихи. Марьинская школа действительно пользовалась громкой репутацией среди петербургской знати.
– Какое замечательное и гуманное заведение! – восхищался по выходе из школы Штерич. – Непременно отнесусь к матушке моей, чтобы учредила у себя подобное. И право, Михаил Иванович, если б чувствовал я в себе призвание к практицизму, сам бы стал учителем в такой школе.
– Чему же вы могли бы научить, Евгений Петрович? – опросил Глинка. – Земледелию или, к примеру, бухгалтерии?
– Ну, какой я бухгалтер! – растерялся Штерич.
– Такой же, как и агроном, – согласился Глинка. – Признаюсь, очень мало гожи мы в учители. Да и не верю я в эти господские школы. А что, если ученый раб пожелает применить добытые знания не для господ, а для себя? Тогда непременно попадет он в другую школу, созданную издревле барской мудростью. Разумею – будут драть его на конюшне, не так ли?
– Михаил Иванович! – Штерич с опаской оглянулся. – Могу ли доверить вам государственную тайну? Мне точно известно, что секретный комитет, учрежденный императором после бунта, не только знакомится с воззрениями государственных преступников, но и намерен облегчить участь крестьян. Однако все это держится в совершенном секрете.
– Если гроза отгремела, – отвечал Глинка, – стоит ли правительству опасаться угасшей молнии?.. – Он хотел что-то прибавить, но на повороте аллеи показались Голицын и Толстой. – Скажи, – обратился к Фирсу Глинка, – неужели старая княгиня так энергично покровительствует просвещению?
– О, она не имеет представления о том, что совершается за стенами ее комнат. Школу завели молодые хозяева, пребывающие в Москве. Кстати, какие чудеса вы там нашли?.. – И, не ожидая ответа, Фирс предложил кончить прогулку, чтобы отдохнуть перед спектаклем.
Глава седьмая
Театральная зала была ярко освещена. За сценой суетились крепостные костюмеры и парикмахеры. Плотники устанавливали декорации.
– Жаль, что нет у нас Розины, – печалился Фирс.
– Розина!.. Розина!.. Розина!.. – выпевал Феофил Толстой, равнодушный ко всему на свете, кроме нежного своего пиано. Голос его звучал сегодня на редкость красиво, да и по внешности был положительно неотразим этот сладкогласный граф Альмавива.
Не обращая внимания на суматоху, Глинка давал последние наставления певчим.
В партере уже расселись гости и приближенные княгини. Но театр казался почти пустым – на хорах не было ни одного человека. Глинка собирался дать Штеричу знак к вступлению, как вдруг театр наполнился глухим шумом. Места на хорах занимали питомцы марьинской школы. Будущие приказчики, камердинеры и парикмахеры рассаживались по правую сторону, слева теснились будущие ключницы и камеристки. Хоры были переполнены. Только привычный страх перед господами сдерживал там всеобщее нетерпение.
– Кажется, не зря попал сегодня пройдоха брадобрей к сиятельной княгине, Фирс! – обрадованно оказал Глинка, глядя через занавес в зал.
Но Фирс-Бартоло увлеченно жестикулировал перед зеркалом.
Тогда, обернувшись к Штеричу, Глинка одобрительно кивнул головой.
– Теперь начнем!
Занавес раздвинулся, и на сцену выбежал цирюльник Фигаро.
– Место! Раздайся шире, народ! Место!..
И лукавый брадобрей начал знаменитое представление зрителям:
Сто голосов зовут,
Стоит явиться мне:
Дамы, девицы,
Франты и старцы.
– Эй, где парик мой!
– Дай-ка побриться!
– Кровь отвори мне!
– Эй, завиваться!
– Сбегай с запиской!..
Глинка пел сипловатым голосом, сыпал лукавыми скороговорками, и каждое его слово, каждый жест прибавляли что-нибудь новое к характеристике цирюльника-бродяги.
Крепостные люди княгини Голицыной понятия не имели о том, кто таков этот ловкий парень и чего ему надобно в Марьине. Но не прошло и нескольких минут, как они узнали в нем дальнего собрата. Всем стало ясно, что хитрец Фигаро насквозь видит пустоголовых бар и на поверку оказывается умнее каждого из них. Дворовые не знали ни имени Фигаро, ни комедии француза Бомарше, ни оперы итальянского синьора Россини. Но они были захвачены зрелищем – ловкий брадобрей действовал словом лучше, чем бритвой.
На сцену вышел граф Альмавива.
– Какой божественный голос! – перешептывались в партере.
На хорах царило молчание. Да и кто осмелился бы здесь выразить свое мнение? Альмавива-Толстой пел тоже по-русски, и голос его был бесспорно красив. Но все головы на хорах снова обращались к брадобрею. Только бы не ушел этот паренек, что так щедро рассыпает свои шутки!
Граф снисходительно похлопал брадобрея по плечу.
– Клянусь душой, ты выглядишь прекрасно!
– От нищеты, синьор мой! – отрезал брадобрей.
Черт возьми! Паренек, кажется, задаст перцу этому сиятельству!..
Молчание, царившее на хорах, готово было прорваться гулом одобрения. Но занавес упал в последний раз.
А легкомысленная Розина, не участвовавшая в представлении, явилась теперь за кулисы и перепутала все роли. Престарелый ее опекун синьор Бартоло, потерпевший на сцене поражение во всех своих происках, показывал озадаченному графу Альмавиве таинственную записку. Прекрасный граф Альмавива, только что пожинавший эфемерные лавры, смотрел на записку с завистью, а Бартоло-Фирс читал с увлечением: «В полночь, когда весь дом заснет, ждите меня в розовой беседке».
– Когда ты успел? – спросил Глинка.
Фирс ничего не ответил, он бережно сложил записку и спрятал.
Незадолго до полуночи Голицын покинул друзей. Августовская ночь была на редкость хороша – теплая, звездная, тихая. В такую ночь неведомо о чем тоскует юность и легче раскрывается девичье сердце. В такую ночь опасности подстерегают легкомысленную Розину на каждом шагу.
В назначенный час в розовой беседке сошлись беспечный повеса князь Голицын и воспитанница княгини. Князь Голицын, вероятно, ни о чем не думал; девушка мечтала о невозможном. И розовая беседка, овеянная теплым дыханием ночи, могла много тому способствовать.
В ожидании Фирса молодые люди сидели на баковой веранде дома, делясь впечатлениями.
– Присутствие челяди немало меня смутило, – говорил Феофил Толстой. – Им ли понять божественного Россини?
– Обязанность артиста в том и состоит, чтобы помочь зрителям, – отвечал Глинка.
– Однако, – в голосе Толстого прозвучала неприязненная ирония, – не слишком ли увлекся ты этой благородной целью? Партия Фигаро не дает, по-моему, основания для показа брадобрея чуть ли не парижским санкюлотом.
– Сохрани бог! – улыбнулся Глинка. – Но я более верю замыслам Бомарше, чем изображению, принятому у актеров-оперистов.
– Уместно ли такое вольное истолкование роли цирюльника перед толпой наших русских Фигаро? – продолжал Толстой. – Ты, кажется, забыл, что комедия Бомарше не только предшествовала кровавым ужасам французской революции, но и способствовала ей, колебля достоинство дворянства и разжигая страсти у черни!
– Есть непреложный закон жизни, мой достопочтенный граф Альмавива, – отвечал Глинка, – простолюдины неохочи до придворных поклонов… Что ты молчишь, Штерич?
– О чем говорить! Я до сих пор потрясен. – Штерич обернулся к Толстому. – Это было чудо лицедейства!
Глинка прошелся по веранде, глянул на окна апартаментов княгини, в которых мерцал свет.
– А я все думаю об ее сиятельстве, – сказал Глинка. – Обратили ли вы внимание на говор старухи? Так монотонно и резко выкрикивает ночная птица… Не припомню, какая именно. И голос ее врывается зловещим диссонансом в гармонию ночи… Великолепная находка для музыканта, который захотел бы изобразить в звуках злое колдовство!
– Что ты! Что ты! – в ужасе замахал руками Феофил Толстой. – Дойдут твои речи до княгини – тогда не жить тебе на свете!
– Нет, право, – не унимался Глинка, – если бы надо было воплотить в музыке злобные чары отвратительной колдуньи, голос княгини был бы кладом музыканту… Стойте, стойте, – продолжал он, – я, кажется, нашел разгадку. Представьте, что кому-нибудь вздумалось изобразить волшебницу Наину из пушкинской поэмы. Надо бы писать ту партию с голоса княгини.
– Но если Марьино можно уподобить мрачному обиталищу Наины… – вмешался Штерич.
–…то все сладостные чары, – снова перебил его Феофил Толстой, – достались одному Фирсу.
Глинка, отдавшись собственным мыслям, не участвовал более в разговоре.
Вдалеке, в апартаментах Наины, все еще мерцали огни свечей. Княгиня сидела в спальне перед зеркалом, освобожденная от шелковых одежд и ухищрений косметики. Дряхлое, обойденное смертью тело неподвижно покоилось в креслах. Пламя свечи вдруг заколебалось от резкого дуновения ветерка. Старуха в ужасе откинулась от зеркала, словно боясь, что раскроется привидевшаяся ей тайна, и замахнулась костылем на приживалок.
– Прочь подите! – Голос ее и впрямь был подобен голосу колдуньи, злобно заклинающей ненавистную ей жизнь.
Глава восьмая
Слухи о представлении у княгини Голицыной распространились в петербургском свете с необычной быстротой. Шутка сказать – к княгине запросто езжал сам император!
Николай Павлович ездил к ней потому, что так же поступал до него Александр Павлович. Александр Павлович в свою очередь следовал обычаю, установленному предшественниками. Так случилось, что старуха, никогда ничего полезного не свершившая и никому ничего доброго не сделавшая, стала реликвией российского императорского дома; визиты к ней почитались у знати столь же высокой честью, как путешествие в Мекку у правоверных мусульман.
Молодых людей, участвовавших в представлении у Голицыной, на котором она не была и о котором вряд ли знала, стали приглашать нарасхват. Бродячая великосветская труппа дала несколько концертов на вельможных дачах в Царском Селе. Теперь легко мог открыться доступ и в императорский дворец.
Феофил Толстой еще усерднее начал заниматься с Глинкой. Не принадлежа к высшему светскому кругу, где своими людьми были Фирс Голицын и Штерич, обладатель нежного тенора быстро сообразил, какой путеводной звездой может стать для него голос.
Только Михаил Глинка был далек от этих замыслов. Он требовал от Феофила Толстого решительного отказа от вычурного сладкогласия. Толстой до времени подчинялся. Между тем он сам пописывал романсы, которые по чувствительности своей должны были принести автору успех в высоких сферах. Было известно, что супруга императора Николая Павловича, в отличие от барабанно-фрунтовых вкусов державного мужа, обожает музыку нежную, исполненную томных вздохов и сладких слез. Феофил Толстой выжидал лишь случая быть представленным ко двору, и возможность эта приближалась с каждым днем.
Неугомонный Фирс Голицын затевал новые предприятия. И тут последовало особо почетное приглашение к председателю Государственного совета князю Кочубею.
Князь Виктор Павлович Кочубей вовсе не интересовался музыкой. Из всех способностей, предполагаемых у первостепенного сановника, он обладал единственным качеством – умел держать нос по ветру. Театральные выдумки, пришедшие в голову старухе Голицыной, могли обернуться придворной модой, следовательно стать делом политическим. Председатель Государственного совета был не так прост, чтобы дать обскакать себя старой ведьме. К тому же о великосветских музыкантах говорил на днях князю Кочубею и Михайло Виельгорский.
Итак, было объявлено, что князь Кочубей откроет сезон музыкальной программой…
– Представим сцены из Моцартова «Дон-Жуана», – предложил Глинка, когда артисты, окрыленные успехом, собрались у Шарля Майера.
– Но ведь и первые труппы Европы приступают к этому бессмертному произведению с трепетом души, – предостерег Майер.
– С вашей помощью, маэстро, – поклонился Фирс Голицын, – мы будем состязаться с любой труппой.
– Разве не заправский Дон-Жуан предстоит перед вами? – указал на Фирса Глинка. – Если он останется самим собой в этой роли, мы будем присутствовать при торжестве правды на театре.
– Послушай, Глинка, – укоризненно сказал Фирс, – если ты имеешь в виду нашу поездку в Марьино, то, клянусь честью, я не оскорбил невинности и не прибавил лавров Дон-Жуана к репутации честного человека. Уверяю тебя, я умею остановиться там, где начинает свои атаки развратный идальго из Севильи.
– Вступаюсь за Дон-Жуана, – вмешался Штерич. – Когда его судят, то забывают, что сам Жуан был жертвой эпохи и обстоятельств.
– Предоставьте судить об этом Моцарту – включился в спор Глинка. – Гений не возводит Дон-Жуана на пьедестал и не слагает гимнов распущенности. Но он и не клеймит его проклятиями святоши. Однако великий музыкант дал в опере о Дон-Жуане другой образ трагической силы. Я разумею донну Анну. Вслушайтесь в эту партию, и тогда вы поймете, что музыка Моцарта возвеличивает донну Анну, то есть ту любовь, которой держится мир.
– Но кто решится петь донну Анну? – спросил Феофил Толстой.
– Не знаю, – – отвечал Глинка. – Во всяком случае ее нужно петь совсем не так, как поют хлопочущие об эффекте примадонны. Они даже не подозревают, какой душевной силой и красотой наделил эту женщину Моцарт!..
– Но где же взять нам донну Анну? – повторил Толстой.
– Дело Дон-Жуана ее разыскать, – хитро улыбнулся Глинка. – Не правда ли, ты найдешь ее, Фирс? Но покончим с разговорами. Дорогой учитель, – обратился Глинка к Шарлю Майеру, – не согласитесь ли вы аккомпанировать мне?
– С отменным удовольствием! Что вы хотите петь?
Глинка подошел к роялю.
– Чтобы пояснить мои мысли делом, – сказал он, перелистывая клавир «Дон-Жуана», – позвольте мне представить донну Анну в ее арии, обессмертившей женщину.
– Нельзя ли без шуток? – отозвался Шарль Майер.
– Без всяких шуток, дорогой маэстро. Именно здесь гений Моцарта противопоставил нехитрому искусству Дон-Жуана высшую правду чувства. В этом и есть драматическое решение темы, которое под стать лишь художнику-философу.
Глинка приготовился петь. Шарль Майер в недоумении оглядел присутствующих.
– Стало быть, это действительно не шутка? – повторил он. – Кто способен понять ваши неожиданности! – И он начал аккомпанемент.
Странно было слышать арию донны Анны в мужском исполнении. Но это ощущение владело слушателями только в первые мгновения. Композитор и певец соединили свои дарования, чтобы сложить великий гимн женщине, ее пламенному сердцу и человеческому достоинству.
Ария звучала неузнаваемо. Донна Анна не взывала к жалости. Образ ее сиял пленительной женственностью и нравственной силой.
– Сегодня и мне, старику, многое открылось… – сказал Шарль Майер, едва подбирая слова от волнения. – Но когда вы успели стать столь искусным в музыкальной драме?
– Дорогой маэстро, – – отвечал Глинка, – вы бы, пожалуй, опять не поверили мне, если бы я сказал вам, что учусь петь не только у итальянцев; я не очень верю и тем, кто сумел похоронить Моцарта в безыменной могиле.
Шарль Майер спешил на урок. Условившись о будущих репетициях, Глинка пошел проводить учителя.
– Странное дело, дорогой маэстро, – говорил он, – вы, может быть, скажете, что я кощунствую, но уверяю вас – высшее понятие о трагедии существует и нашем народе. Мы знаем цену истинному страданию и потому пуще смерти боимся зряшных слез и котурнов, равно как и доморощенных ходуль. Когда-нибудь в нашем театре откроется миру истинный Моцарт. Но что я говорю, безумец!
– Может быть, может быть… – повторял Шарль Майер, и остановился, озадаченный: но может ли это быть?..
…А на Торговой улице, в доме купца Пискарева, каждый вечер собирались аматёры, будущие участники представления. Снова появились здесь вольнонаемные оркестранты и певчие. Глинка обратил особое внимание на певчего Иванова. У него был тенор чарующей красоты. Но по робости певчий пел напряженно и нерешительно.
– Золото, а не голос у вас, – сказал Глинка, – но вы еще понятия о том не имеете. Ну-ка попробуем, каков ваш диапазон.
Певчий, застенчивый и неловкий, взял, расхрабрившись, верхнее фа, потом, после колебаний, вытянул соль, но петь выше решительно отказался.
– И не надо! – отступил Глинка, но, зная, что певчий охоч до денег, стал нанимать его на отдельные репетиции.
– Все голоса от природы несовершенны, певец непременно требует учения, – объяснял учитель.
Певчий Иванов саркастически улыбался: он ли не учен!
А Глинка продолжал, все более увлекаясь:
– У каждого певца два сорта нот. Одни берутся без всякого усилия – благодарите за них создателя и совершенствуйте упражнением прежде всего эти ноты. А затем, имея основу, обработайте остальные звуки. Все они станут тогда одинаково ровны и приятны. А как у нас итальянские маэстро учат? Тянут сразу весь голос, от нижних до верхних нот.
Певчий слушал недоверчиво и не проявлял той горячности, с которой работал учитель. Впрочем, ему и в голову не могло прийти, что избран он для важнейшего опыта. Но Глинка обошелся с учеником так ловко, так искусно подбирал ему упражнения, что Иванов, сам того не заметив, стал брать верхнее ля и даже си-бемоль.
Глинка жмурился от удовольствия и то и дело повторял:
– Ну и наградил вас создатель!
Дядька Яков вручал певчему обусловленное вознаграждение и, явясь к барину, корил:
– Платим, платим, а за что платим – сами не знаем.
– Молчи, сквалыга! – оправдывался Глинка. – С этаким голосом он всех итальянских знаменитостей за пояс заткнет…
– Да вам-то, Михаил Иванович, какой от того прибыток? – резонно вопрошал Яков, но не получал ответа.
И то сказать – обдумывал в это время Михаил Иванович основы той русской школы пения, которую будет создавать долгие годы.
Занятия с певчим продолжались. Продолжались и общие репетиции. Правда, дело не очень ладилось. Феофил Толстой стал манкировать, ибо добился приглашения на домашние вечера к великой княгине. Фирс Голицын приезжал с опозданием, каялся, клялся быть аккуратным, а на следующий день снова являлся к концу репетиции. Даже Штерич, влюбленный в музыку, реже бывал у Глинки. В пустопорожние занятия сына властно вмешалась матушка. По ее разумению, будущий камергер попросту обился с дороги, по которой она твердо вела его к расшитому мундиру и золотому ключу.
В зале были попрежнему расставлены пульты, лежали стопки нот. Не раз понапрасну собирались певчие и оркестранты. Глинка тщетно ожидал солистов. Однажды, когда никто из них не явился, Глинка подозвал слугу.
– Вот что, Яков, – с музыкантами разочтись и отпусти.
– Может быть, на завтра их заказать? – посочувствовал Яков.
– Не надо! Не видишь, бестолковый, что разбежались мои приятели?
– А я Михаил Иванович, и то дивился, как иные господа усердствовали. Ретивее наемных были. Да отчего и не поблажить в летнее время?
– Ну, ступай, ступай!
Глинка отправил Якова, стал молча расхаживать по залу. Подвели, окончательно подвели господа будущие камергеры!
А на Черной речке все еще покачиваются у берегов гордые катеры непобедимой армады. Но кропят ту армаду только унылые осенние дожди. Все еще вспоминают, поди, крепостные люди в Марьине, как явился на барской сцене удивительный цирюльник… Но попрежнему учат в Марьинской школе управителей и камердинеров, а прошедших науку бойко продают с немалым барышом.






