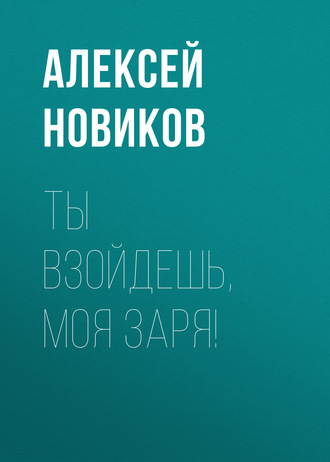
Алексей Новиков
Ты взойдешь, моя заря!
– Но я вовсе не ищу этой чести, – отвечал Глинка.
– Боже мой! – удивилась Лизанька. – Но если… Ох, какой ты неловкий… – Девушка в смущении не находила слов. – Но если объявят о нашей помолвке… – Лизанька приникла к молодому человеку. – Исполни мое желание – и я обещаю тебе все, что ты захочешь! Теперь ты сочинишь музыку, мой Индрик-зверь?
Глава шестая
– К черту! К дьяволу! – злорадно повторяет Глинка и, минуя птичьи клетки, решительно идет к пылающей печке, чтобы бросить в нее измятые листы.
Но тут в воображении перед ним предстает лилея Лизанька. Он видит ее обещающие глаза, слышит ее горячее дыхание и признается, что даже вдали от нее, даже в Новоспасском, не в силах противиться этим чарам.
Глинка разглаживает помятые листы и снова перечитывает французские вирши. Где-то в глубине темных глаз зажигаются упрямые огоньки. Пусть бессилен он противиться Лизаньке, но музыка, если суждено ей родиться, пойдет своим путем. Не властны над ней ни Лизанька-лилея, ни генерал-«аллюр», ни верноподданный поэт из Марселя.
Садясь за рояль, Глинка еще раз покосился на письменный стол. Вирши, оплакивающие смерть Александра Павловича, безмятежно покоились рядом с памятным башмачком. Но сочинитель так углубился в мир рождающихся звуков, что и башмачок и вирши были тотчас забыты. Музыка действительно пошла своим путем. Музыка скорбела о безвременье и о тех, кто в безвременье погиб.
– А надо будет – француз подкинет любые метры! – Сочинитель оторвался от рояля, и в глазах его снова зажглись упрямые огоньки.
Он работал упорно и быстро, довольный своей хитростью. Печальная, величавая тема разрасталась и ширилась, а в воображении уже обозначилась центральная ария: Россия жива и будет жить.
– Опять перетрудился? – спрашивала, присматриваясь к сыну, Евгения Андреевна.
– Где там, маменька, – грустно отвечал сын. – Так ли надобно трудиться в художестве! – Он присел рядом с матушкой. – Позвольте только самую малость отдохнуть у вас.
– Отдыхай. Однако, смотрю я, совсем ты без прибытку трудишься. Ни наград, ни чинов за музыку не жалуют. Какая же тебе корысть?
– Вы, маменька, никогда о том не спрашивали.
– А материнскому сердцу какой спрос? – Евгения Андреевна погладила сына по голове, как маленького. – Раньше я и сама не знала, как на тебя смотреть. Мало ли в юности причуд бывает! А порой и до старости тешится ими человек. Хоть бы Афанасия или Ивана из наших, шмаковских, взять – ведь тоже музыканты!
– Разумеется, – подтвердил Глинка. – В особенности дядюшка Иван Андреевич.
– Уж ты рад его, беспутного, хвалить!
– Да чем же беспутный, маменька? Если вы насчет Дарьи Корнеевны сомневаетесь, так ведь, ей-богу, славная женщина. И дядюшка с ней, смотрите, ожил.
– Не мне их судить, – отвечала Евгения Андреевна, – люди и без меня засудят. Да я, пожалуй, не о том. Музыка у Ивана непутевой оказалась. Никуда сама не пошла, никуда и его не привела. Вот и остался он в разоренном гнезде, что он, что Афанасий.
– А я? – заинтересовался Глинка. – Смогу ли я в музыке хозяйствовать?
Евгения Андреевна пристально посмотрела на сына.
– Никогда я тебе мнения моего не говорила и знать не могу – тоже ведь шмаковской барышней родилась. У клавесина выросла, а знания ухватила – на ломаный грош!
– Когда же вам, маменька, было, коли замуж вышли!
– Ну да! – усмехнулась Евгения Андреевна. – А теперь на папеньку да на вас ссылаться – чего лучше? Только я тебе так скажу: если бы не дворянская наша лень да если б душа у меня была просящая…
– Полноте, полноте! Никак не согласен! – перебил Глинка.
– А ты дай досказать, коли сам спросил. Другие, смотришь, служат или в имении хозяйствуют, байбаками живут или плодятся, а ты у меня пламенем горишь. Давно я материнским сердцем знаю: не наш ты, не житейский человек. А легко ли тебя, милый, музыке отдавать – про то мне ведать. Только ничего не поделаешь, без моего спросу она обошлась. Мне ж теперь одно осталось: тебе, голубчику, жизнь облегчить… – Евгения Андреевна помедлила. – А с Лизанькой у тебя как? Не серьезное ли затеял?
– Не знаю, ничего, маменька, не знаю. На днях в Смоленск поеду и, если дело толком объяснится, вам первой скажу.
– Не торопись только. Ты и в амурах огневой… а для прохлаждения из атласных башмачков пьешь. Только вряд ли этак разум остудишь… Ты про учителя, который у Ушаковых жил, слыхал?
– Какой учитель? – удивился Глинка.
– Ничего, стало быть, не знаешь?.. Был у Алексея Андреевича взят в дом для обучения Лизаньки какой-то аглицкий выходец, Шервуд, что ли, если не запамятовала. И чудил же с ним Алексей Андреевич! В то время наяву им грезил и дочь готов был за него отдать, лишь знамения ждал… Ну, было ли ему знамение или не было, не скажу тебе, только послал он своего любимца на военную службу – чины добывать, чтобы не зазорно за него дочку сватать.
– А Лизанька?
– Об этом, голубчик, сам ее спроси. А еще лучше – обожди. Коли серьезное у вас дело, сама она тебе скажет. Не близкие мы с ними. Знаю то, что сама от Алексея Андреевича слышала. А сплетен разве оберешься? Ты и сам их Лизаньке прибавил. Башмачок у нее с ноги снял, а люди теперь тот башмачок ей на шею повесили. Или не так говорю?
Вернувшись от Евгении Андреевны к себе, Глинка снова взялся за кантату. Надо было кое-что сызнова испытать, еще раз сообразить и вникнуть в самый дух гармонии. И это тоже было, пожалуй, плохо для нетерпеливой Лизаньки, которая никак не могла понять, что какие-то незадавшиеся гармонии могут хотя бы на лишний час задержать влюбленного.
Глава седьмая
Смоленское благородное общество шумело и волновалось. Впрочем, это волнение не имело никакой связи с музыкальным вечером, затеянным генералом Апухтиным. Город потерял голову от приезда всероссийской знаменитости. То был явившийся нежданно-негаданно бравый прапорщик Иван Васильевич Шервуд. Трудно было бы узнать теперь в нем безвестного унтер-офицера, который тайно скакал в Таганрог и открыл императору Александру Павловичу все, что выпытал о заговорщиках, умышлявших против самодержца. Собачьим нюхом выведал Иван Васильевич многие важные известия о тайном обществе, образовавшемся на юге. По горячему следу привел царских ищеек к Павлу Пестелю и товарищам его.
Недаром ревностного слугу лично благодарил император Николай Павлович и поцеловал его в яркие, пухлые губы. И эти самые губы ныне приводили в истому смоленских благородных девиц.
Иван Васильевич, будто нарочно, то и дело появлялся на улицах Смоленска в шинели, лихо накинутой на одно плечо. Он любил промчаться по городу в открытых санях, подставив ветру могучую грудь, и тогда еще более волновались девичьи сердца. Это волнение было тем понятнее, что в городе уже веяло коварное дуновение весны. А Иван Васильевич бывал и на улицах и в гостиных, как будто решил осчастливить Смоленск навеки.
Он состоял всего в чине прапорщика, пожалованном ему за открытие заговора; однако, расцелованный самим императором, мог завтра стать генерал-адъютантом, графом, министром, черт знает кем!
Иван Васильевич и сам не отрицал своего государственного предназначения, хотя не пускался в пространные декларации. Каждый понимал, что о подобных предметах положено говорить не в губернских гостиных, а в царском дворце или в государственном совете. Но таких высот избегали касаться господа смоляне.
Только порой вдруг засосет под ложечкой у какого-нибудь многосемейного дворянина: «Чем не шутит чертяга? Возьмет этакая государственная персона да и брякнет: «Прошу руки и сердца дочери вашей, Семен Прохорович! Осчастливьте на всю жизнь». И опять сосет под ложечкой у Семена Прохоровича: «А почему бы и не выйти мне в камергеры через Настеньку или Парашу? Девицы по всем статьям в порядке и на выданьи…»
Но тут же и опомнится мечтатель: Иван Васильевич Шервуд квартировал в доме Алексея Андреевича Ушакова, принятый там, как свой. Лизанька Ушакова оказалась в очевидном преимуществе перед губернскими невестами.
– Вот тебе и знамения! – кряхтели друзья и приятели Алексея Андреевича. – Ежели он в этакую точку потрафил, как ему, старому кобелю, в свои знамения не верить?..
И многие, даже малознакомые, поехали с визитами к Алексею Андреевичу.
Алексей Андреевич был ко всем ласков. Насчет знамений, явленных ему в прошлом, подтвердил, а насчет будущего высказался неопределенно.
– Ожидаю, непременно ожидаю, – говорил он, – а пока, представьте, не имею.
И гости уезжали не солоно хлебавши, порой даже глазом не кинув на персону. Шервуд либо пребывал в отведенных ему покоях, либо выезжал, сопровождая Елизавету Алексеевну на правах друга и бывшего учителя.
У генерала Апухтина собирались будущие участники музыкального вечера. В ожидании музыки, которую где-то сочиняет неизвестный молодой человек, играли в колечко или в фанты. Молодые люди прикидывали, долго ли ждать до ужина; девицы вздыхали втихомолку, глядя на неразбитных кавалеров.
Но вдруг по всему дому произошло какое-то движение. Сам генерал выбежал в переднюю. Пока гость охорашивался перед зеркалом, старик отвел в сторону Лизаньку Ушакову и стал ей тихонько выговаривать:
– Да ты никак спятила, Афродита! Этакую персону – и запросто… Хоть бы записочкой предупредила!
Афродита рассмеялась, потом шепнула генералу:
– Но ведь он совсем простой, уверяю вас! – И, говоря так, Лизанька с фамильярностью, свойственной баловницам счастья, положила ручку на генеральское плечо.
Когда прибывшая персона в сопровождении mademoiselle Ушаковой и хозяина дома проследовала в гостиную, там уже курили благовонными травами, а в люстре и в канделябрах горели вместо сальных восковые свечи.
– Прошу вас, mademoiselles et messieurs, – оказал басом Иван Васильевич, отдавая общий поклон, – sans çérémonies[7], – И эполеты знаменитого гостя ослепительно вспыхнули в блеске свечей.
Кавалеры, сбившиеся было табунком, приободрились и вернулись к дамам. Игра в фанты продолжалась, но ни одна из девиц не могла вытянуть такого фанта, как тот, который, по всем достоверным признакам, достался Лизаньке Ушаковой.
– Прошу вас не стесняться, господа, – благосклонно сказал Шервуд, намереваясь принять участие в играх. И он еще раз ободрил робких кавалеров: – Sans çérémonies…
Лизанька играла рассеянно. Пожалуй, именно она уделяла наименьшее внимание знатной особе. Не значило ли это, что мысли девы витали далеко? Может быть, летели эти мысли к новоспасской усадьбе, к заветной комнате, где трудится над будущей кантатой избранник сердца? Все это могло быть именно так. Во всяком случае Лизанька не вышла из рассеянности, пока не уехала в сопровождении Шервуда.
В карете Иван Васильевич обнял ее и привлек к себе.
– Sans çérémonies? – укоризненно улыбнулась Лизанька.
В ее взоре были и нерешительность и колебание. Мысли ее опять блуждали вдалеке. Они действительно неслись к Новоспасскому, но были полны тревоги: стоило ли так торопиться с Мишелем?..
А Глинка все еще сидел над нотами. Музыка окончательно пошла своей дорогой. Музыкант воплощал свои мысли о родине и о себе самом. Декабрьские происшествия в Петербурге – хотел или не хотел этого сочинитель – продиктовали первый скорбный хор кантаты. Потом он думал о российских героях и здесь черпал вдохновение для центральной арии.
Лилея Лизанька потеряла в эти дни всякую власть над ним. Французские вирши, предназначенные для кантаты, были забыты. Можно сказать, музыка противоборствовала им каждой своей мыслью. Но что значило это противоборство в сравнении с теми испытаниями, которые готовило музыканту будущее? Сейчас он отметал вирши безвестного француза-гувернера; придет время, и на его вдохновенное создание, посвященное народу, ополчатся поэты-царедворцы. Будущий автор «Ивана Сусанина» еще только вступал на путь борьбы с льстивой казенной словесностью, которая попытается полонить, исказить и присвоить драгоценнейшее из его созданий. Стычка с гувернером-виршеплетом свидетельствовала об одном: муза Михаила Глинки была от рождения воинственного нрава.
Кантата была, пожалуй, готова. И центральная ария тоже. Глинка решил сам петь ее на предстоящем вечере у Апухтиных. Он сидел и раздумывал о том, как должен действовать в жизни и в музыке герой.
В эту минуту вошел к сыну Иван Николаевич, только что вернувшийся из обычных странствий.
– Представь себе, друг мой, завернул я в Смоленск – сраму насмотрелся. Занесло туда какого-то Шервуда, что ранее у Ушаковых проживал, а ныне в герои вышел. Пошел вверх по деликатному делу, которое и не обозначишь на приличном лексиконе… И этого доносителя, презревшего честь и товарищество, взапуски в домы приглашают. Нестерпимо видеть!
По свойственному ему обычаю Иван Николаевич несущественного не коснулся и о Лизаньке Ушаковой не обмолвился ни словом.
– А как ты со службой, друг мой? Не время ли тебе ехать?
– Не могу и помыслить о Петербурге, – отвечал сын.
– И я так полагаю, лучше обождать. Ведомо ли тебе, что, по верным известиям, взят в Варшаве сумасброд Кюхельбекер?
Иван Николаевич поднялся.
– Так пошли же немедля в Петербург свидетельство о болезни, чего проще!
С того дня Михаила Глинку начали мучить приступы бессонницы.
Ночью ему вдруг представилось, что Кюхлю тащат на плаху.
Глинка подошел к столу, зажег свечу. На столе стоял как ни в чем не бывало башмачок лилеи.
Глава восьмая
Последние байбаки и те боялись опоздать на музыкальный вечер к генералу Апухтину, после того как стало известно, что торжество почтит своим присутствием государева доверенная персона.
Самые ленивые дворяне с невиданной поспешностью вылезали из засаленных халатов и облекались во фраки. Почтенные отцы семейств то и дело вихрем носились на дамские половины.
– Карета Друцких проехала, разрази меня бог! – вопил муж и отец, обычно не подававший дома признаков жизни.
– У Гедеоновых запрягают! – кричал другой, барабаня в запертые двери.
– В Сибирь вы меня упечете! – плакался в отчаянии третий, проклиная мешкотных дам.
Словом, всеобщее усердие было таково, что съезд к апухтинскому дому начался задолго до объявленного часа.
Сам генерал, при всем своем воображении, диву дался:
– Черт их несет в этакую рань! Что за притча, Михаил Иванович?
А Михаил Иванович Глинка, будучи занят последней репетицией с хором, даже не расслышал вопроса. Перед ним стоял с нотами в руках Карл Федорович Гемпель, сын органиста из Веймара, промышлявший музыкой в Смоленске.
– Имею одно маленькое недоразумение, Михаил Иванович, – говорил он, водя пальцем по нотному листу. – Есть ли целесообразно сопоставление тонов C-moll и B-dur[8]?
Глинка углубился в ноты, но певцы и певицы, окружившие его, потребовали новых наставлений маэстро.
Весь дом полнился шумом голосов, а в комнатах, отведенных для артистов, еще шла репетиция. Когда наиболее любопытные из гостей прорывались сюда, барышни-певицы пронзительно визжали и разбегались. Спевку надо было начинать сначала.
Глинка проклинал и себя и всю Лизанькину затею… Но именно Лизаньки-то и не было среди певиц.
Когда он, приехав в Смоленск, бросился к Ушаковым, ему сказали, что барышня заболела и не покидает постели.
Сочинителю кантаты ничего не оставалось, как с утра до вечера заниматься репетициями. Хор слаживался плохо. Даже сейчас артисты все еще фальшивили.
Из залы было слышно, как рассаживаются, переговариваясь, гости. Волнение артистов нарастало. Только Карл Федорович Гемпель, ко всему равнодушный, снова встал перед Глинкой:
– Я все-таки полагаю, Михаил Иванович, что C-moll не есть добрый сосед для B-dur!
Вместо ответа Глинка оставил Карла Федоровича на растерзание девицам, а сам юркнул к двери, которая вела в залу. Сквозь узкую щелку он оглядел публику. В первом ряду сидела лилея Лизанька и рядом с ней – бравый офицер. Офицер близко склонился к своей даме и едва не касался толстыми мокрыми губами ее крохотного ушка. Сочинитель кантаты был уверен, что Лизанька тотчас отведет ушко. Но она не успела этого сделать, а Глинку потянули за фалды фрака сразу несколько рук. Хористы готовились к выходу. Девицы напоследок прихорашивались. Карл Федорович уже вышел в залу и, заняв место за роялем, оглядел выстроившийся хор и дал знак к началу…
Глинка оставался в артистической в полном одиночестве до тех пор, пока не кончился первый хор. Тогда он вышел в залу, чтобы исполнить героическую арию, и… должен был собрать все свое мужество.
Положение в первом ряду значительно изменилось. Теперь на лилейной ручке Лизаньки плотно лежала мясистая рука ее кавалера. Очевидно, этому прапорщику разрешалось гораздо больше, чем дозволяется по этикету другу и бывшему учителю. На какой-то миг артист не то замешкался, не то смутился. Карл Федорович поднял на него недоумевающие глаза. И героическая ария началась.
Все общество, присутствовавшее у генерала Апухтина, наперебой расхваливало кантату. Впрочем, в отношении музыки публика по новизне дела могла бы оказаться в немалом затруднении: как ее понимать, эту музыку, сочиненную уездным дворянином на события, столь достопамятные в российской истории?
Так, может быть, и не сложилось бы о музыке никакого мнения, если бы не выручил общество именитый гость. Иван Васильевич Шервуд решительно похвалил и певцов и музыку. Он изъявил полное удовольствие хозяину дома:
– При случае, – заключил Иван Васильевич, – буду рад аттестовать и ходатайствовать в Петербурге.
Генерал стоял перед прапорщиком чуть не навытяжку и слушал с умилением. Когда же Иван Васильевич обернулся к сопровождавшему его губернатору, лихой рубака перецеловал ручки у Лизаньки.
– Венера, родившаяся из пены! – сказал ей генерал, не тая ни слез, ни благодарности.
А Иван Васильевич покровительственно похлопал по плечу поэта-гувернера и любезно пожелал видеть сочинителя музыки. Но тут произошло досадное замешательство. Ни хозяин, ни добровольные гонцы, бросившиеся искать Глинку по всему дому, нигде не могли его найти.
За ужином Лизанька Ушакова сидела рядом с Шервудом на самых почетных местах. Опьяненная успехом, она прикрыла благоухающие губки веером и сказала своему кавалеру:
– Я всегда верила в твою звезду… всегда!
– А этот… как его… сбежавший музыкант?
Лизанька подняла на Ивана Васильевича лучистые глаза.
– Ты ревнуешь?
Вместо ответа Шервуд басовито рассмеялся и лихо прикрутил колючий ус.
Тут хозяин дома провозгласил тост за здоровье дорогого гостя, известного доблестью и геройством его императорскому величеству.
К Шервуду потянулись чокаться.
Всероссийская знаменитость прапорщик Шервуд и безвестный титулярный советник Глинка так более и не встретились. Но на следующий день, когда Глинка шел с Карлом Федоровичем Гемпелем, он неожиданно столкнулся на улице с Лизанькой Ушаковой.
– Какая счастливая встреча, Мишель! – обрадовалась лилея. – Я еще вчера искала вас, чтобы сказать, что Иван Васильевич будет рад дать вам все доказательства истинной дружбы, если у вас встретится какая-нибудь надобность в Петербурге.
В это время подъехали, ныряя по ухабам, Лизанькины сани. Лилея села и умчалась.
– Очень приятная барышня, – сказал Глинке Карл Федорович и вернулся к прерванному разговору: – Вы есть настоящий талант, Михаил Иванович, но C-moll все-таки не есть близкий приятель для B-dur. Я всегда буду не соглашаться с вами!..
Вот и все, что случилось в Смоленске. А после возвращения Глинки в Новоспасское у него начались жестокие приступы нервической лихорадки.
Над Островом муз зажигались вешние зори. Только музы не возвращались. Должно быть, с тех пор, как Поля переселилась в Руссково, капризницы-музы тоже покинули тихий островок.
Осунувшийся Глинка часами сидел перед окном. Головные боли мучили до того, что он, кажется, и в самом деле помнил далеко не все, что произошло в Смоленске. Иногда ему представлялось, что Лизанька садится за фортепиано и напевает усачу-прапорщику: «Не искушай меня без нужды…» Тогда Глинка сжимал виски. «Может быть, еще о музыке, подлец, рассуждает, – думалось ему, – может быть, и слезы дрожат в глазах, чуть-чуть тревожных, как у гончей, идущей по следу».
Известие, пришедшее вскоре из Смоленска, вывело Глинку из состояния подавленности – Лизанька была объявлена невестой.
Евгения Андреевна все чаще поднималась наверх к сыну, и бывало всегда так, что помолчат они, а потом подойдет к ней Глинка и, обняв матушку, непременно скажет:
– Друг мой маменька, ободрите недостойного сына, стоящего на горестном распутье.
Сначала Евгения Андреевна опасалась, что сын, потерпев крушение у Ушаковых, терзается самолюбием и ревностью отвергнутого жениха. Стала утешать его Евгения Андреевна, но сын с таким удивлением взглянул на нее, что она вздохнула с облегчением.
– А что со мной было, маменька, – сказал Глинка, – я вам притчей изъясню. Сидите вы, представьте, в театре и видите, как полыхают на театральном небосклоне слепящие молнии. И вы видите эту молнию и, может статься, даже прикроете глаза рукой, и дела вам нет до того, что стоит в кулисах пиротехник и зажигает свои составы… Вот и со мной то же случилось. Поверил, дурень, в молнию, а составы, слава богу, дотла сгорели. Вот и вся притча, голубчик маменька!
– Ох ты, огневой! – улыбнулась Евгения Андреевна. – Спасибо сам не сгорел.
– А надо бы мне хоть от стыда сгореть! – Глинка прошелся по комнате и вернулся к матери. – Как я мог в этакую пиротехнику поверить? – сказал он не то всерьез, не то шутя.






