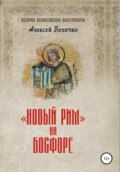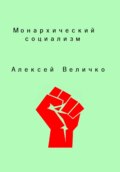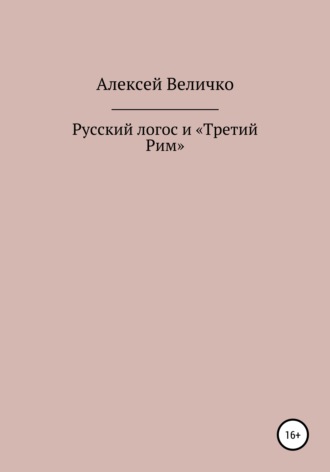
Алексей Михайлович Величко
Русский логос и «Третий Рим»
Та же картина наблюдается в духовных грамотах князя св. Дмитрия Ивановича Донского (1359-1389), его детей и внуков.
Личная воля завещателя являлась у нас проводником государственных стремлений. Московские князья усиливали одного наследника за счет других, концентрируя земельные владения в его руках. Только в духовной грамоте Иоанна III (1462-1505) начинают пробиваться слабые ростки государственного сознания, но и здесь трудно найти различие между частным княжеским владением и государственным. Он также воспринимал свое княжество, как вотчину, которой распоряжался по личному усмотрению. При царе Иоанне Васильевиче Грозном (1547-1584) происходит решительная перемена: старшего сына Иоанна Иоанновича (1554-1581) государь благословляет Русским царством (а не уделом), а остальным хотя и выделяет уделы, но тут же добавляет, что они составляют собой принадлежность Великого государства.
Могут возразить, что нечто подобное наблюдалось и в Западной Европе – ничуть не бывало. Феодальный лен всегда представлял собой неделимое имущество, переходившее по закону старшему сыну. При этом зачастую личная воля завещателя не имела никакого значения, все определялось по закону.
И только при Петре Великом (1682-1725) в «Правде воли монаршей» проявляется государь, призванный Богом блюсти своих подданных в благочестии и чистоте, а не вотчинник, озабоченный интересами собственных детей. «Царей должность есть содержать подданных своих в беспечалии и промышлять им всякое лучшее наставление, как к благочестию, так и честному жительству»21.
III
Однако, скажут, социальное расслоение общества и нелюбовь к власти не являются исключительной чертой русского общества. И, действительно, эти явления повсеместны и постоянны. Вместе с тем, как показывает история других христианских государств, пропасть между разными сословиями микшировалась тем, что даже низшие слои населения имели свой правовой статус. А потому всегда могли апеллировать к суду, защищая свои честь, достоинство, имущество и саму жизнь. Именно благодаря католическому каноническому праву уже к XIV столетию на Западе сформировался юридический принцип неприкосновенности личных прав человека и его имущества от посягательств политической власти22. У нас же, увы, этим похвастаться никак нельзя.
В глазах нашего соотечественника закон олицетворяется не со справедливостью (при довольно многочисленных «позитивных» поговорках у нас присутствует не меньше других, вроде «закон что дышло…»), а с проявлением власти, ее эманацией. Закону подчиняются не потому, что он справедлив или морален, а потому что неповиновение ему, неисполнение его, наказуемо той самой властью, которая его приняла. Поэтому, и срастаться с ним нет никакого желания: «правовым», рассуждает обыватель, он наверняка не станет, а вот «человеком» может и перестать быть, раздавленный и униженный томами законных постановлений.
Поскольку такое отношение к праву носит далеко не единичный характер, «официальная» жизнь начинает течь как бы по закону, а жизнь «настоящая» – по иным, неписанным правилам и обычаям. К слову сказать, сами законодатели обычно также предпочитают жить вне рамок собственных творений, руководствуясь правовыми традициями, привычными в их кругах. Иными словами, «кто закон пишет, тот его и ломает»23. В результате, несмотря на всеобщий характер принятых законов, в действительности они обращены лишь в сторону нижних слоев, и те, соответственно, воспринимают их как очередное орудие унижения и угнетения.
В известном фильме Н.С. Михалкова «12» есть фраза, неизменно вызывающая искренние аплодисменты зрительного зала, словно в ней раскрыта вся тайна «русской души»: «Да не будет никогда русский человек жить по закону; скучно ему по закону жить, закон мертв, нет в нем ничего личного; а русский человек без личного отношения – пустоцвет».
Конечно, в любом государстве всегда есть, были и будут более или менее справедливые, с точки зрения рядового обывателя, «плохие» и «хорошие» законы. Но так, что закон вообще – не для нас, что он отторгается только потому, что – закон?! Увы, наше прошлое действительно дает массу примеров тому, что век от века закон относился вполне безразлично к судьбам рядовых граждан. Так, по словам Ю.Ф. Самарина (1819-1876), из 15 томов Свода Основных законов Российской империи и 32 дополнений, вышедших на его памяти в течение 20 лет, нет ни одной статьи, которая бы чем-нибудь улучшала положение крепостного сословия24.
Как следствие, в русском обществе столетиями крепло убеждение в том, что от закона нельзя ожидать правды и справедливости, а нужно действовать «лично» через знакомых и их друзей, чтобы получить «свое», обезопасить себя. Вот и весь секрет «личного отношения», о котором говорилось выше. Все это вполне объяснимо, один вопрос – отчего это дрянное состояние мы квалифицируем как нашу «самость» и почему гордимся им!?
Кроме того, к сожалению, русское право унаследовало ту негативную особенность византийского права, как его некоторую неряшливость и бессистемность. А слабость нашего закона усугубилась еще тем, что русская юридическая мысль проявлялась не систематически, а «по случаю», и ориентировалась нередко на взаимоисключающие принципы. Как убедительно доказывал В.И. Сергеевич (1832-1910), уже в древности на Руси жестокие рабовладельцы приравнивались в общественном сознании к еретикам, разбойникам и иноверцам. Сохранилось несколько посланий, датированных XV и XVI веками (в частности, Иосифа Санина, основателя Волоколамского монастыря и некоего Башкина), в которых напрямую излагалось идея равенства рабов и господ перед Христом и предлагалось отпустить господам своих рабов на волю, сделав их свободными крестьянами.
За ними следуют два указа – царей Бориса Годунова (1598-1605) и Василия Шуйского (1606-1610). Первый обязывал господ кормить своих рабов даже в голодные годы, а второй устанавливал правило, согласно которому раб имел право на бесплатную вольную, если господи не позволяет ему жениться. К сожалению, существует масса примеров обратного свойства. Согласно «Соборному уложению» 1649 г. крестьяне были не вправе даже подавать жалобу на своих господ. Исключение составляли доносы о государственных преступлениях. Оно же еще более расширяет дистанцию между крестьянами и помещиками, обязывая вчинять иски по обязательствам крестьян их господам25. Правоведу это правило напрямую показывает, что крестьянин полноправной личностью не считался.
У И.В. Михайловского (1867-1921) некогда вышла работа с характерным названием: «Наказание как фактор культуры». Мысль, выраженная в ней, предельно понятна: чем ниже культура лица и общества в целом, тем более страшные, наглядные наказания следует прилагать к правонарушителю. И наоборот, соответственно. Наш ученый справедливо полагал, что «область карательной репрессии стоит в обратном отношении к совершенству правового порядка и зрелости народа». А потому «чем культурнее делается человек, чем больше духовная сторона его будет развиваться, тем менее окажется он способным к совершению очень многих преступлений»26. Отсюда отпадает необходимость многих наказаний и жестокости.
Действительно, бессмысленно угрожать домашним арестом или утратой некоторых публичных прав лицу, которое вообще не считает их какими-либо ценностями. Напротив, не следует прибегать к тюремному заключению, телесным наказаниям, физическим пыткам и т.п. в отношении правонарушителя, для которого факт судимости, обнародование, так сказать, его криминального поступка, представляет собой акт бесчестия.
В этой связи весьма показательна широкая практика телесных наказаний в России, завершившая свой век лишь к концу XVIII столетия. Не станет откровением мнение, что именно телесные наказания наиболее оскорбительны для личности человека. Нередко для «благородных» людей смертная казнь кажется предпочтительнее, чем розги. Почему, например, на Западе дворянское, духовное сословия и рыцарство были освобождены от них. Однако, как пишут исследователи, к XIV столетию кнут и батоги стали господствующим наказанием в русском уголовном праве. Согласно «Соборному уложению» 1649 г. кнут применялся по 140 статьям, хотя в действительности практика была более обширной. Более того, активно применялось членовредительство (отсечение рук или ног). Характерно, что никакое сословие, включая высшие и духовное, не было свободно от этого вида наказания.
В 1488 г. на торгу были биты кнутом князь Ухтомский и архимандрит Чудова монастыря, а в 1647 г. – боярин Стрешнев, что ввергло иностранных гостей в недоумение и ужас. В самом деле, одно дело – публично предавать телесным наказаниям разбойников «без роду и без племени», другое – именитых лиц, высшее сословие России. Уж лучше тогда, наверное, казнь, по крайне мере, честь будет сохранена…
Даже эпоха Петра Великого ничего не изменила в этом отношении: смертная казнь и битье батогами стали повсеместным наказание за самые разные правонарушения. В 1714 г. сенаторы Волков и Опухтин были биты кнутом с последующим клеймением языка каленным железом. Хотя, все же, постепенно при Петре I стало формироваться мнение о необходимости сокращения этих видов наказаний. И лишь при императрице Елизавете Петровне (1741-1761) наметилось смягчение санкций, а смертная казнь была вообще отменена.
Примечательно (и это, разумеется, не самая светлая страница в истории Русской церкви), что само священноначалие широко применяло телесные наказания, и они нередко бывали очень жестоки. Например, будущего святителя Геннадия, будущего архиепископа Новгородского (1484-1505), бывшего в те годы архимандритом Чудова монастыря, митрополит Московский св. Геронтий (1473-1489), раздосадованный тем, что непокорный и интеллектуальный монах переспорил его по вопросу о хождении «посолонь», за ничтожное нарушение аскезы в монастыре велел посадить в оковах в ледник под своей палатой. И только заступничество Великого князя спасло св. Геннадия27.
Коломенский архиепископ Иосиф обычно наказывал своих клириков плетьми и держал на цепи, раздев предварительно донага; конечно, это был далеко не единичный случай. Даже в середине XVIII столетия обнаженных монахов били перед мирянами, и лишь указанием Московского митрополита Платона (Левшина) – (1775-1811) эта практика была завершена28.
Проблема заключалась не только в жестокости применявшихся наказаний, но и в неопределенности санкций, установленных приговором, поскольку никаких гарантий преступнику закон не устанавливал. Вследствие этого, определяя род наказаний, суд не оговаривал количество ударов или способ смертной казни. Например, в «Соборном уложении» 1649 г. нередки такие санкции: «Чинить жестокое наказание, бив кнутами, выслать в полки», «боярам и воеводам за то чинить жестокое наказание, что государь укажет», «чинить наказание, бить батогами, да кинуть в тюрьму», «бить кнутом нещадно» (ст. ст. 9, 10, 16, 19 главы VII). «Казнить без всякой пощады», «от Великого государя в наказании, и в казни, и в разорении» – обычные судебные формулы прежних веков29.
Напротив, нередки случаи, когда тяжелые виды наказаний (в частности, смертная казнь) не применялись на практике, хотя бы в самом законе именно она была предусмотрена без какой-либо альтернативы. Объяснение этому удивительному явлению довольно простое: при строгом применении смертной казни по букве закона на Руси вовсе не осталось бы людей, поскольку цифры казненных и так были огромны. Волей-неволей приходилось применять наказания, законом не предусмотренные, смягчая судебный приговор по принципу: «Суровость российского закона компенсируется необязательностью его исполнения»30.
Но и это – полбеды. В представлении того времени и в полной противоположности принципу индивидуальности наказания, в России не было никаких препятствий для распространения санкций, назначенных виновному лицу, на невиновных. Особенно часто это применялось при назначении ссылки конкретному преступнику, который отбывал на место нового жительства вместе со всей семьей. Но нередко применялось и при других видах наказаний, например, за государственную измену или религиозные преступления, когда каралась вся семья. И хотя «Соборное уложение» 1649 г. (ст. ст. 6-10 главы II) специально оговаривает недопустимость этой практики31, а еще ранее царь Василий Шуйский прямо писал, что «всякого человека, не осудя истинным судом, смерти не предавать, вотчин, дворов и животов у братии его, у жен и детей не отнимать, если они с ним в мысли не были, если они с ним в этой вине не виновны», она продолжалась еще долгое время.