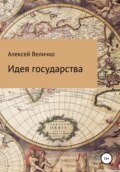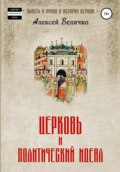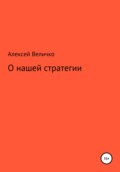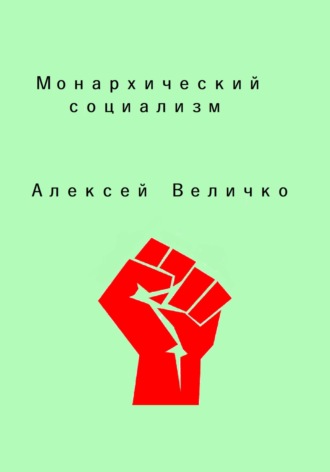
Алексей Михайлович Величко
Монархический социализм
V
Очевидно, для этого требуется, чтобы государство не просто продекларировало бы себя «анти-светским», а в буквальном смысле этого слова стало «теократическим», приняв догматы веры и христианскую этику в качестве абсолютного нравственного закона. И если мы принимаем это требование, то следует категорично отказаться от «классического» понимания «прав», как системы, уравнивающей людей, и взять за основу ту религиозную аксиому, что люди изначально неравны, и в этом неравенстве как раз и содержится здоровая основа развития общества. Если, конечно, человек верит в Бога. «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех» (1 Кор.12:4-6). С этим доминирующим признаком напрямую связаны также формы правления государства, система и структура власти, способ ее деятельности – ведь человек и общество пребывают в материальном мире, и государство есть помимо духовной составляющей еще и материальная сила. Равно как и институт власти.
Форма правления – величина вовсе не индифферентная тем задачам, которые ставит перед собой «теократический» социализм. Может ли общество всерьез верить в Божий промысел и признавать Его Творцом неба и земли при республиканской, в частности, форме правления, основанной на идее народного суверенитета и признании человека источником верховной власти?! Ведь в этом случае уже сам человек мнит себя «творцом земли», по крайне мере. А иногда даже и «творцом неба».
Несложно понять, что в либерально-социалистической конструкции Богу места уже не остается. Как следствие, нравственные ценности, полагаемые в основу «прав человека» утрачивают абсолютный характер и признаются детищем обстоятельств времени и места. Потому хотя и заявляют, что «этические нормы носят некоторый характер универсализма, который проявляется по мере развития человечества», однако тут же оговариваются, что «переход человечества в качественно новую стадию своего роста должен привести к разработке новой системы этики, более универсальной по своему содержанию39. Собственно говоря, все без исключения светские государства основаны на этом убеждении.
«Республиканское теократическое светское государство» – суть немыслимая адакадабра, набор лишенных связи друг с другом признаков. Более того, поскольку человек в таком социалистическом обществе оценивает все явления «по-человечески», то и свое природное неравенство в сравнении с более удачным и обеспеченным гражданином воспринимает особенно обидно для себя. Эта социальная зависть не может быть успокоена ничем, кроме как удовлетворенным желанием сравняться с «тем», «другим», любым способом. Правда, за этим, которого «счастливчик» уже догнал и перегнал, последует новый, и так без конца…
Да и народоправство в этом случае вовсе не носит столь широких демократических масштабов, которых следовало бы от ожидать по обещаниям его теоретиков. Думается, совершенно не случайно средний обыватель полагает, что парламент и другие демократические институты беспокоятся вовсе не о его благе, а об интересах элиты общества. Чего здесь больше – правды или затаенной зависти, трудно сказать. Но факт остается фактом: по данным современных американских социологов, в 1964 г. 29% населения говорило, что управление США ведется к пользе богатых. В 1992 г. таких уже было 80%40.
Однако и верховная власть, всерьез опасающаяся нарастающих потребительских аппетитов своих подданных, берет всю жизнь обывателя под строгий учет и контроль, чтобы, во-первых, не переплатить ему, во-вторых, чтобы заставить его жить в понятной ей формате, а, в-третьих, чтобы завистливые граждане сохраняли хотя бы видимость социального порядка. Не случайно, в условиях либерального социализма общество покрыто сетью всевозможнейших узаконений, регулирующих жизнь от первого вздоха до гробовой доски, а то и еще дальше. И это называется – «свободой человека»41.
В качестве альтернативы необходимо рассмотреть ту форму правления, которая являет собой плоть от плоти детище теократической идеи – монархию, основанную на иерархичном, структурированном обществе, где социальное неравенство людей сосуществует вместе с признанием равенства их всех, как сынов Божиих. Где социальная политика государства направлена не на уравнение материального положения всех граждан, а на обеспечение каждого из них «правом на достойное человеческое существование». Где правоспособность человека определяется в зависимости от вида и сложности его общественного служения. И где естественные «права», например, на свободу совести, право собственности и т.п., надежно защищены законом.
Казалось бы, такая попытка едва ли может быть принята без скепсиса: пусть к достоинствам монархии можно отнести ее «теократичность», но из общих соображений «общеизвестно», что единоличная власть никак не может совмещаться с «правами» граждан. Но кто сказал, что монархия – синоним деспотии, диктаторства, что она – прирожденный убийца свободы человека или, как минимум, его «прав» ?! Ведь в теократическом государстве, живущем по религиозным догматам, рядом с носителем верховной единоличной власти располагается Церковь, обнимающая собой весь политический союз, элита общества, выросшая на принципе «правообязанности», т.е. служения отечеству, рядовое население, ярко осознающее себя гражданами, а не просто обывателями.
Каждая из этих групп и совокупно – тем более, это такая нравственная и материальная сила, которая способна отрезвить любого самодержца, пытающегося уклониться от подвига служения и пожелавшего остановиться лишь на стадии вкушения благ от единоличной власти. Разумеется, данная политическая конструкция, состоящая из живых людей со своими недостатками и страстями, требует ежедневной, и так из года в год, из века в век, работы, направленной на микширование отдельных личностных недостатков и приведение остальных элементов системы к общей гармонии, «симфонии». Но именно этот процесс и демонстрирует нам история теократических государств.
В сказанном нет преувеличения, поскольку в отличие от представителей высших органов республиканской власти, в лучшем случае верящих в Бога «лично», но не готовых признать религию объективным фактором, монарх, сознающий себя Божьим слугой, имеющий страх Божий и руководствующийся в своей жизни христианской этикой, мыслит иначе. Для него «дар власти – от Бога и представляет собой как бы частицу наивысшего из всех главенств, и он должен быть проявлен так, как проявляется власть Бога – с отеческой заботливостью, которая не только руководит целым, но касается и всех частностей»42.
Выясняется, что для обеспечения «прав человека» вовсе не обязательно декларировать политическое равноправие, для социальных гарантий не требуется национализация средств производства, для формирования равных «стартовых» возможностей вовсе не нужно упразднять внутреннюю структуру общества, то естественное неравенство, которое каждый человек застает уже в момент своего рождения и какое сопровождает его всю жизнь. Напротив, «сословия суть признак силы и необходимое условие культурного цветения. Христианство личное, настоящее, думающее прежде всего о том: «Как я отвечу на Суде Христовом?», – ничего не имеет против сословий и всех неприятных последствий сословного строя. Гражданская эмансипация и свобода христианской совести – это большая разница»43.
История многократно свидетельствует об эффективности строя, который создало религиозное общество еще в те времена, когда о «научном» социализме никто еще не говорил.
VI
В качестве блистательного примера рассмотрим практику Византийской империи, где «права человека», включая политические и социальные, системно и весьма умело сосуществовали с частной собственностью, жесткие ограничения по продаже наиболее востребованных товаров со свободой торгового оборота, где государством устанавливалась плата рабочим определенных специальностей, существовала система социального призрения и медицинского обеспечения, разнообразные образовательные учреждения (как платные, так и бесплатные), и многое другое, что сегодня для нас является визитной карточной социалистического государства.
Так, уже при императоре Валентианиане I (364-375) в Риме был открыт университет. В нем насчитывалось 14 факультетов, где обучались бесплатно все желающие граждане. Там преподавал 31 профессор по таким отраслям знания, как правоведение, риторика, грамматика, философия. Полвека спустя университет появился и в Константинополе. Существовали также обычные школы – государственные и частные, многие дети «из простых» обучались при монастырях, которых насчитывалось великое множество.
При императрице св. Феодоре (527-548) были созданы специальные заведения для женщин, некогда занимавшихся проституцией и выкупленных царицей по их желанию. Они содержались на ее личные средства и проводили время в покаянии, молитвах и труде.
В XII столетии император Мануил I Комнин (1143-1180) организовал сеть бесплатных аптек, где больным отпускались необходимые лекарства. Любопытно, что авторство рецептуры многих из них принадлежало самому императору.
Право собственности на землю в Византии принадлежало государству по принципу: «Кто взимает налоги, тому и принадлежит земля»; остальные лица являлись владельцами различных уровней, имевших лишь право на доход с земельных участков44. Поэтому верховная власть могла без труда конфисковать земли мятежников, административными методами перераспределять ее или обменивать между различными лицами. С другой стороны, первой заботой императора являлся поиск людей, способных максимально эффективно возделывать землю45.
Очень тщательно было организовано производство наиболее важных предметов, например, шелка-сырца. Он не мог быть вывезен за пределы Константинополя, продавался исключительно торговцам, имеющим специальное разрешение, при этом продавец не мог иметь прибыль более 8, 33%. Аналогичным образом регулировалась максимальная прибыль торговцев золотом и серебром (8%), производителей мыла и воска (16, 66%), мясников, колбасников, рыбаков, булочников, (4%) и других. Хлебная торговля находилась в монополии государства в виду особой значимости этого пищевого продукта. Было твердо урегулирована заработная плата отдельных категорий работников, например, капитанов и экипажей морских судов46.
Сильное впечатление оставляет ознакомление с известным законом, закрепившим социально-экономическую структуру общества и поддерживавшего сословно-цеховую организацию, – «Книгой эпарха». Закон категорически не допускал, в частности, аргиропратам (торговцам золотом и серебром) приобретать и продавать иные предметы, кроме указанных. При этом при торговле своим товаром они не имели права снижать или повышать цену продаваемых вещей в ущерб продавцам (глава II. $1, 2) 47.
Торговцы шелком (вестиопраты) имели право покупать шелковые одежды, но никакой иной товар, за исключением того, какой предназначен для личного употребления (глава IV. $1). Закон закреплял существование очень специфических корпораций, например прандиопратов, занимавшихся монопольно закупками одежды в Сирии. При этом «Книга эпарха» четко регулировала, какой товар и какого качества мог стать объектом их торговли (глава V. $1, 2) 48.
Наверное, не было ни единого важного вопроса, который не был тщательно и детально урегулирован императорскими законами. Так, ремесленники, очищающие шелк (катартарии), имели право приобретать шелк-сырец, привозимый из-за границы, лишь в объемах, которые могут сами обработать; очевидно, для предотвращения спекуляции. Те же, кто вступал на сей счет в тайное соглашение с третьими лицами, подвергался телесным наказаниям и лишался права на профессию (глава VII. $1) 49.
Особо законодательно регулировались вопросы изготовления заведомо некачественного товара. Мера наказания за это была строгой – конфискация имущества и отсечение руки, не говоря уже о запрете на профессию (глава VIII. $2, 3, 4, 5, 7, 8)50. Не менее строго каралась спекулятивная скупка отдельных товаров, например, свиней. Для этих целей торговцы мясом обязаны были приобретать животных исключительно на торговой площади Тавра, а те, кто тайно выходил за границы города навстречу поставщикам и перекупал у них товар, лишались профессии и подвергались телесным наказаниям (глава XVI. $1,2,3)51.
Предусматривались и льготы для специалистов по особо важным категориям профессий, например, хлебопеков. С одной стороны, закон четко определял уровень их прибыли, с другой, освобождал их и даже домашних животных от всяких государственных повинностей (глава XVIII. $1,2)52.