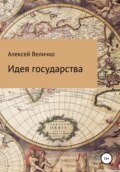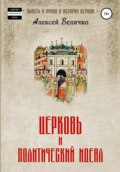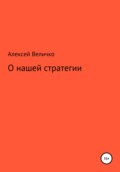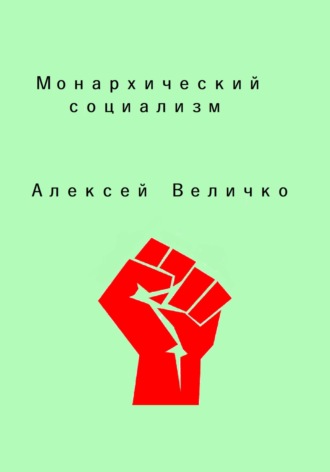
Алексей Михайлович Величко
Монархический социализм
IV
Эти многообещающие формулы легко сформулировать вслух, но реализуемы ли они на практике? Вопрос не праздный, поскольку, как не раз замечалось, социализм воспринимался его сторонниками в первую очередь, как экономическое учение, направленное на обеспечение экономических прав. Поэтому, подвергнув капитализм жесткой обструкции, социалисты переняли для своих конструкций те же самые идеи и аксиомы, которые были рождены ненавистным и отрицаемым ими строем. По одному точному выражению, хотя социализм был прав в критике капитализма, но грешил тем, что сам еще духовно пребывал в нем25.
В частности, для социалистов, также, как и для сторонников капитализма, человек имеет значение лишь как обладатель материального благосостояния, он интересен как производитель и потребитель благ. Не духовные запросы человека, его нравственные потребности и прирожденная свобода, а экономика являлась альфой и омегой социализма. Как следствие, на полном серьезе утверждалось, что нравственное совершенство государства, понимаемого социалистами исключительно как экономический союз, напрямую и всецело зависит от его хозяйственного строя26.
В этой материалистической конструкции нет главного – самого человека. Не случайно, «классический» социализм справедливо признавался замкнутой системой абсолютного коллективизма, принципиально исключавшей религию, которая для социалистов отождествилась с общественной несправедливостью27.
Почему? Хотя бы по той причине, что именно религия благословляла общественное неравенство и признавала право собственности «естественным», предлагая соответствующие доводы из Священного Писания. А где присутствует общественное неравенство, там нет свободы, и социалисты дружно призвали в свои союзники материализм и атеизм в пику христианству. Как не согласиться после этого с Л.А. Тихомировым, утверждавшем, что самые негативные стороны социализма возникли тогда, когда утопический социализм слился с материализмом28. Его убеждение разделял и Б.Н. Чичерин29.
Казалось бы, эта беда вполне излечима, поскольку, испытав первую горечь поражений, социализм сошелся со своим вчерашним смертным врагом – либерализмом, переняв от него «права человека». Увы, в скором времени выяснилось, что и либерализм выпестован той же идеей светского, безрелигиозного общества, и предлагаемые им «права» не имеют к религии никакого отношения. Ну, разве что только по названию, но никак не содержательно. Зато весьма враждебны по отношению к христианству.
«Идея абсолютного достоинства человеческой личности и равенства всех перед Богом, как “сынов Божиих”, проповедана Евангелием и неразрывно связана в нем с учением о Боге и мире, с основными положениями христианской метафизики. Все демократические идеалы нашего времени питаются этой идеей. Но – странным образом – не только происхождение этой идеи забыто, и действительные основания ее утеряны, но с течением времени идеалы свободы, равенства, братства стали считать чем-то чуждым и даже противоположным христианству»30.
Не удивительно, что, приняв на вооружение либеральные «права», социализм нисколько не продвинулся в попытке их «одухотворения». Если же духовные ценности по-прежнему меряют исключительно материальными критериями потребления и производства, то едва ли возможно возносить их над потребностями человека, свобода которого оценивается только и исключительно по степени их удовлетворения; остальные не в счет.
Какое иное благо, кроме наращивания материальной базы и роста потребительской корзины, ставит во главу угла социалистическое государство либерального типа, если нравственность и духовность – суть производные от материальных категорий понятия?! Ответ очевиден: сыт человек – это и есть венец надежд, апогей его расцвета, главная цель общественного и личностного развития. Остается лишь согласиться со следующими словами: «Материальная и, в частности, денежная культура есть могущественнейшее орудие общего прогресса; но оно есть именно только орудие, результаты которого определяются не им самим, а целями и духовными запросами тех, кто им пользуется. Предоставленное самому себе, оно имеет разрушительное действие, ибо обращает средства в цели, а цели в средства и, необычайно увеличивая внешнее могущество, вместе с тем делает личность слугой материальных вещей и ценностей»31.
Не удивительно, что за очень незначительный период времени реестр «прав», как он начал формироваться французскими «энциклопедистами» еще в XVIII столетии, хотя и вырос численно, все более и более обесценивался содержательно. Да и расширение перечня прав не может не встревожить здоровые натуры: год от года (и так на протяжении минувшего века) нравственным стали считать едва ли не все, что человеку угодно совершить – лишь бы это не вредило материально окружающим, включая однополые «браки», «право» на эвтаназию, аборт и парад геев, свободную продажу наркотиков. Все эти новации уже сегодня выдают за прогресс, хотя непредвзятому уму сложно назвать их иначе, как проявлениями духовной деградации человека. Да и физической, к слову, тоже.
Стало очевидным, что без абсолютных нравственных ценностей, даруемых человеку и обществу «извне», любой тип социалистического государства, пусть даже самый «либеральный», закабаляет человека хуже всякого капиталистического общества и – главное – развращает его.
Если главная цель общества накормить человека, сотворить из камня хлебы (Мф.4:3) по одному коварному и злобному совету, то остальные аспекты утрачивают актуальность и откровенно переносятся в «запасники» свободы, которой можно пользоваться, как угодно. Но откуда взялось нелепое утверждение, будто сытый человек сам по себе возрастает духовно-нравственно? Общество берется удовлетворить все его желания, не нарушающие покоя других граждан? Но, как легко убедиться, далеко не все потребности полезны человеку. Если рассматривать его, конечно, как нравственное существо, а не животное. Отец русской философии В.С. Соловьев (1853-1900) писал как-то, что многие люди имеют потребность в порнографии, но «должна ли эта потребность удовлетворяться производством непристойных книг, картин, безнравственных зрелищ» ?!32 Ответ, надо полагать, очевиден.
Или – другой пример: социализм радеет об уменьшении рабочего дня, однако очевидно, что «далеко не всякое сокращение рабочего дня, обеспечивающее не только отдых, но и досуг, является безусловным благом. Нужно не только хозяйственно, но и духовно дорасти до короткого рабочего дня, умея употреблять освобождающийся досуг. Иначе короткий рабочий день явится источником деморализации и духовного вырождения. И здесь имеет силу закон, что не о хлебе едином живет человек. Тем не менее именно такая свобода от хозяйства, или некоторое сверххозяйственное состояние, составляет мечту социализма»33.
Равноправие и равенство – хоть социальное, хоть политическое – при ближайшем рассмотрении также вызывает массу вопросов. Как, к примеру, можно уравнять в политических правах (тех же избирательных) многомудрого интеллектуала и люмпена, едва ли вообще разбирающегося в политической философии и практике государственной деятельности? Седовласого, мудрого отца семейства и юного повесу, у которого в голове развлечения явно превалируют над чувством гражданской ответственности? Вообще, для многих людей избирательное право становится товаром, который они охотно и легко продают покупателям, строящим из него свои политические карьеры. Эти явления за минувший век столь многочисленны и повсеместны, что не вызывают даже удивления. И борьба за избирателей в действительности превращается в судорожную гонку по скупке их голосов.
Тоже следует сказать и об экономическом равенстве. Благо, если дарованные гражданину государством средства идут на доброе дело. Но ведь зачастую они потребляются бездумно и безрассудно. Так алкоголик вливает в себя очередную бутылку зелья, твердо зная, что завтра принесут еще. Ради этого, что ли, и строилось государство экономического и социального равенства?!
Разговоры о духовности носят вовсе не «теоретический» характер и обусловлены не субъективными желаниями отдельных утопистов-христиан побороться за нравственность. И требование видеть в человеке духовную силу, желание пробудить в нем нравственное чувство вызваны вовсе не жеманством «романтиков от науки» или политики, а практической необходимостью, если угодно.
Если социализм готов скорректировать свою цель, отказался от экономического уравнивания граждан, согласившись с тем, то достаточно «лишь» обеспечить каждому тот необходимый минимум, который, как кокон бабочку, защищает человека, то ему и в этом случае нужна именно личность, сознательно участвующая вместе с верховной властью в социально-политическом процессе. Да, государство готово применить жесткую силу, склоняющую высшие и наиболее обеспеченные группы населения перед общегосударственными целями. Однако такую же силу ему приходится применять и в отношении низших слоев населения, напоминая им, что социально-политические и правовые гарантии даны им как гражданам своего отечества, а не «вообще». А потому, получая их безвозмездно от государства, они обязаны служить ему в тех формах и в то время, какие будут определены властями, а не по собственному желанию и усмотрению. Можно сказать и иначе: только в том случае государство обязано обеспечить человеку право на достойное существование, когда человек будет трудиться с осознанием полезности и необходимости своего труда, желанием служения всеобщему благосостоянию ближнего34.
Само собой разумеется, это возможно лишь при духовном развитии человека, когда и для него, и для верховной власти безусловными признаются одни и те же нравственные заповеди и требования. В противном случае государство вырастит поколения (одно за другим) тунеядцев и бездельников, безынициативных плебеев, ценящих исключительно собственное благо. Да и силовые, запугивающие представителей политической и бизнес-элиты методы едва ли могут приветствоваться в качестве единственного средства привлечь их к решению общегосударственных задач. Да, «предпринимательская прибыль должна быть очищена и облагорожена осознанием служения обществу»35. Но много ли даст «осознание», выбитое палкой?! В этом случае «либеральный социализм» вновь возвращается на круги своя, вспомнив старую «экспроприацию экспроприаторов».
С нравственным началом связано и отношение человека к природе, дающей ему необходимый материал для удовлетворения потребностей и экономического развития. Либо хищническое, основанное на убеждении в том, что человек – царь мироздания и налагает свою волю на окружающий мир в духе Г.В.Ф. Гегеля (1770-1831): «Все вещи могут стать собственностью человека, поскольку он есть свободная воля. Так как я даю моей воле наличное бытие через собственность, то собственность также должна быть определена как эта, моя»36; либо духовное, основанное на признании природных богатств даром Божьим, который он должен возделывать, воссоздавать, улучшать, в известной степени «служить» природе, культивировать и хранить созданный Творцом внешний мир.
Способен ли социализм, если он и в самом деле желает поставить во главу угла человека, вырваться из липких объятий грубого материализма во имя достижения высшей цели? Готов ли признать, что социальная справедливость вовсе не экономическое понятие и не ограничивается им, что это – не случайный материальный закон, данный нам слепой «природой», а духовная категория, возносящая человека к Богу? И если это так, то и для «прав» нужен абсолютный источник, из которого они черпали бы собственное содержание. Таковым, бесспорно, может быть только религия. «Все усилия людей будут тщетны, если мы оставим в стороне Церковь» – очевидная истина37.
В очередной раз возникает вопрос: возможно ли такое в принципе? Ведь, как известно, «социализм есть проповедь царства от мира сего, самая решительная попытка человечества устроиться без Бога. Христианство же есть царство не от мира сего, хотя путь к нему проходит и через этот мир, оно подготовляется в истории человечества»38.
Ответ очевиден: для того, чтобы разорвать этот порочный круг противоречий, нужно, чтобы социализм стал христианским. Но как достичь этой цели?!