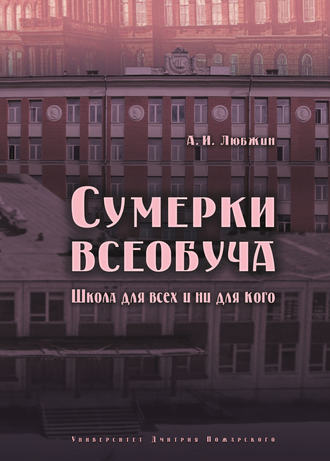
Алексей Любжин
Сумерки всеобуча. Школа для всех и ни для кого
В литературе, безусловно, есть над чем подумать. Античное и средневековое образование, интеллектуально не менее мощное, чем современное, все выстроено на риторике. Однако наша литература не риторика, и для постановки правильного мышления она нужна, но недостаточна.
История может быть предметом весьма серьезных размышлений, если проходить ее как политику, опрокинутую в прошлое. Для этого, впрочем, нужно сместить акценты: для того чтобы над конкретной ситуацией можно было размышлять, ее нужно знать подробно, одновременно абстрагируясь от сведений о том, чем все завершилось впоследствии. Если предпринимать такие усилия, можно рассмотреть подробно две-три эпохи, совершенно пренебрегая остальными. Кроме того, это занятие уж точно не для всех. Даже гуманитарно одаренных.
Иностранные языки (в особенности древние) хороши тем, что можно – в отличие от литературы и истории – ставить задачи любого масштаба, от самых простых до весьма трудоемких. Кроме того, здесь 1) сравнительно легко постепенно увеличивать сложность заданий и 2) тренировать одновременно память и мышление, давая задания, которые актуализируют абсолютно все ранее полученные знания. Это делает изучение языка со сложной грамматикой даже более интересным образовательным инструментом, чем математика: здесь комбинации различных тем появляются естественно на каждом шагу. Однако реально качественное гуманитарное образование может выстроить только вся совокупность этих предметов.
Момент, который переживает наша школа, – во многом ключевой. Выбор между безответственной болтовней и серьезной интеллектуальной работой совершается сегодня. И этот выбор определяет – воцарится ли «легкость в мыслях необыкновенная», которая поможет нашим детям сбросить с себя обременительное иго русской истории и культуры, или победят столетиями строившие ее ценности служения и труда.
Диалог о красоте и достоинстве русского слова
Действующие лица:
Преподаватель филологического факультета МГУ, пожилая женщина, уже давно защитившая кандидатскую диссертацию, постоянно участвующая в приемной комиссии, в дальнейшем – филолог.
Литературовед из поколения дворников и сторожей, полиглот, презирающий научные степени, мужчина лет пятидесяти, консервативных взглядов, из принципа пишущий в стол, в дальнейшем – литературовед.
Сотрудник лингвистической кафедры одного из ведущих университетов, молодой кандидат филологических наук, окончивший матшколу, умеренно-прогрессивных взглядов, в дальнейшем – лингвист.
Специалист по истории педагогики, мужчина лет сорока, автор многочисленных научных трудов, в дальнейшем – историк.
Все присутствующие, давно знакомые и искренне расположенные друг к другу, встречаются за чашкой чая на работе у Филолога, куда пришли для обсуждения актуальных новостей.
Филолог. Знаете, коллеги, меня уже давно тревожат разнообразные слухи. То говорят, что в потаенных недрах института на Волхонке разработали новую орфографическую реформу, и весь крещеный мир хотят заставить писать «заец» и «парашут». То из министерских подвалов доходит шепот, будто бы число обязательных часов на русский язык и литературу хотят серьезно сократить. Уровень наших абитуриентов и так все больше и больше оставляет желать лучшего, и мне становится не по себе…
Лингвист. Утешьтесь: слухи, как правило, слухами и остаются, и у них нет в наше время большой потенции к материализации. Вы можете спать спокойно: пока вопросы будут обсуждаться и согласовываться, нам уже станет все равно.
Литературовед. В этих словах есть, конечно, доля правды, как и в любой шутке – в том числе и о парашуте – всегда есть доля шутки. Но, к сожалению, именно глупые шутки и обладают наибольшей способностью превращаться в нечто брутально-материальное. В последнее время у нас неоднократно была возможность убедиться в этом.
Лингвист. Естественно, Вы должны особенно мрачно относиться к таким перспективам: не Вы ли говорили всегда, что для предлагающих орфографические реформы должны быть установлены жестокие публичные наказания: дыба и колесо.
Литературовед. Вы не угадали. Я как писал, так и буду писать, и для меня дорога старая, дореволюционная орфография, за которую ныне отважился публично вступиться только глубокоуважаемый отец Валентин Асмус. А снявши голову, по волосам не плачут. Если форма «лечу» одна от «лететь» и «лечить», то народная этимология «жури» от «журить», а «брошура» от «брошь», – а она возникнет несомненно, – мне не представляется слишком опасной.
Филолог. А что же пишет отец Валентин Асмус в своей, так сказать, «брошуре»?
Литературовед. Деяния тогдашних новаторов он характеризует, – на мой взгляд, вполне справедливо – как «реформу, в которой выразились злоба недоучек (сиречь либералов) и преступное недомыслие устроителей всеобщего счастья (то есть коммунистов)». Предложения же его таковы (сейчас не помню все, перечислю важнейшие): привить школьникам пассивное владение старой орфографией, издавать в подлиннике старой орфографией сочинения всех, на ней писавших, а тем, кто хочет писать на ней сейчас, – делать это правильно. В этом, действительно, есть глубокий нравственный смысл: Иван Ильин, Цветаева, Бунин и другие решительно выступали против нового «кривописания» и требовали, чтобы их сочинения издавались в дореволюционной орфографии. Потомки грубо нарушили их волю. А что касается последнего пункта, то довольно забавно видеть повсюду натыканные без склада и лада твердые знаки там, где нужна еще и «ять», а ее-то и нет.
Лингвист. Высказываясь откровенно и резко, я счел бы эти мысли экстремизмом, из уважения к присутствующим я назову их преувеличением. Ваши злокозненные издатели могли бы погубить дело своих авторов и отбить у широкой публики охоту читать их, выполни они эту их волю. А что касается науки, то она не санкционирует своим авторитетом упрямую приверженность старине. Точно так же Вы могли бы отвергать петровскую гражданскую печать и требовать использования исконной «кирилло-мефодицы», как сказал один мой знакомый школьник, не писать из ревности и благочестия пса буквой пси, а только псалмы, восстановить имперфекты и аористы, «аще» и «обаче» и весь шишковский хлам. Орфографическая реформа (разработанная Императорской Академией Наук) была принята при Временном правительстве и одобрена многими известными языковедами…
Литературовед. Вы совершенно правильно сделали, отказавшись от опасного слова «лингвист». Вообще язык нельзя доверять лингвистам – они видят в нем механическую структуру с пустыми знаками, которым можно приписать в принципе любое содержание. Их идеал – говорить двоичными числами. Впрочем, к присутствующим, естественно, это не относится.
Филолог. Как не относится и к теме нашего разговора, по крайней мере к ее школьной части. Поэтому я хотела бы вернуть присутствующих к исходной точке. Сейчас не слишком актуален вопрос о достоинствах ижицы и фиты.
Лингвист. Как ни странно, сейчас он именно актуален, только не у нас, а на Западе. Немецкая орфографическая реформа предполагает отказ от исходных греческих элементов типа ph, звучащего как f, то есть фактически то, что было сделано эдиктом Мануйлова. Отказ от ижицы и фиты как раз и представляет собой отказ от элементов искусственного и совершенно безжизненного уже эллинизма, который – что касается ижицы – и распространялся только на корпоративную терминологию духовного сословия. В этом смысле мы несколько опередили немцев, хотя отстали от итальянцев. Это мировой процесс, и сопротивляться ему бесполезно.
Литературовед. Это сейчас мы занимаемся чистым обезьянничаньем. Любая орфографическая реформа предназначена для «Камчатки», для дебилов, она является следствием чрезмерного распространения грамотности, которая в своих высоких, традиционных формах становится уже непонятной массам. Решили немцы изгнать из своего языка – столь внутренне сходного с греческим – последние греческие элементы, которых не могут усвоить наиболее тупоголовые представители сей достохвальной нации, решили англичане вкупе с американцами – в тех же видах – ввести свою пресловутую Nue spelling, так наши тотчас сочли, что написать «заяц» для русского школьника недоступно. Позор!
Историк. По существу Вы правы, я только никак не могу принять презрительную форму Ваших высказываний. Грамотное письмо, что в старой, что в новой орфографии, – которые действительно сложны в одинаковой степени, поскольку, как правильно отмечал ваш любимый Иван Ильин, сложно правило само по себе, – грамотное письмо, повторю, не является ни единственной человеческой добродетелью, ни даже первой, ни даже первой среди равных. Когда Вы прочтете описание Гросс-Егерсдорфской битвы у Болотова, Вам вряд ли придет в голову интересоваться, насколько хорошо знали грамоте ее участники; исторический опыт подсказывает, что в основном не знали. Да, Шпет в прекрасно всем присутствующим известном «Очерке развития русской философии» заявлял, что «наша история есть организация природного, стихийного русского невежества», что «наше общество и государство никогда не могли преодолеть внутреннего страха перед образованностью», а один из замечательнейших министров просвещения, А. Н. Шварц, писал одному из своих корреспондентов, весьма крупному ученому: «Упорядочить учебные заведения все равно мне не дадут: русские все готовы вынести, кроме ученья». Но разве не слышится в этом та типичная жестокость немцев к русскому телу, о которой говорил Аксаков, – Вы ведь помните этот эпизод в «Семейной хронике»?
Литературовед. А кроме того, наша современная школьная программа и не рассчитана на то, чтобы школьники полюбили русский язык и русскую литературу; так что будет на них выделяться больше часов, меньше или не будет совсем, – по существу вполне безразлично.
Филолог. А почему?
Историк. Вы уже много лет постоянно участвуете в приемной комиссии факультета. Следовательно, и нет более компетентного судьи при ответе на вопрос: как изменилась ситуация за последние годы, когда все меняется.
Филолог. Я постараюсь ответить на этот вопрос, отвлекаясь от субъективного момента в своих впечатлениях, хотя это и трудно: в молодости, как известно, и вода мокрее, и соль солонее. Что касается нашего факультета, разница действительно не так велика, хотя средний уровень – не столько грамотности, сколько эрудиции – немного упал; с теоретической точки зрения мы могли бы – при общем падении – сталкиваться с примерами блестящей образованности, учитывая возможность появления хороших школ, но пока их выпускники что-то не выделяются на общем фоне. На других факультетах, где мы работаем, положение хуже: в последние десять лет школа дает в среднем все менее и менее качественный продукт.
Историк. А как Вы оцениваете причины этого явления?
Филолог. Здесь я могу, конечно, высказать только свое субъективное мнение. Социологических данных у нас нет; не знаю, есть ли они вообще у кого-нибудь. Грамотность и интерес к литературе поддерживаются в первую очередь самостоятельным чтением; сейчас оно стало более опасно. Советская система корректуры (малонадежная для иностранных языков, но вполне добротная для русского) развалилась; большинству издательств нежелательно тратить дополнительные деньги на доводку книг, и потому их орфографический уровень упал. Это одна из причин. Вторая – компьютер, причем не столько как установка для игрушек, сколько как психологический феномен: я думаю, каждому из Вас известен какой-либо юноша, не желающий учиться писать грамотно потому, что компьютер все исправит сам. Да и рекламные лозунги застревают у детей в головах, как репейник, – ничем потом их оттуда не вытащишь. А для языковой культуры эта реклама иногда очень разрушительна.
Литературовед. Я добавил бы еще одну, которая, впрочем, лишь усилилась, а не появилась за последние годы. Школа – сфера социальной катастрофы. Государство своим отношением к жалованью учителя и общество своей поддержкой этого государства открыто заявляют о том, что школьное образование (не буду говорить образованность) не входит в число его ценностей. Можно ли – даже отвлекаясь от личных побуждений – делать хорошо ту работу, которая, как ты видишь, не нужна заказчику? Это одна из черных дыр, прежде всего крадущих здоровье детей – сначала психологическое, а потом и физическое. На мой взгляд, сейчас школа просто опасна для ребенка, и отдавать туда ребенка нельзя.
Лингвист. Если это просто мысль, заостренная до парадокса в целях удобопонятности, принять ее можно, но в буквальном виде это опять-таки крайность. Дома Вы лично сможете дать своему ребенку превосходное образование (хотя Вы здесь, скорее, исключение), но не решите проблему социализации, и Вашему блестящему эрудиту будет трудно общаться с людьми и почти невозможно – с чиновниками.
Литературовед. Но, по существу, то, что сказал уважаемый Филолог, только подтверждает мое исходное равнодушие к школьной проблематике: ведь это все внешкольные причины. Более того, в так называемых продвинутых школах сейчас тратится больше времени на грамотность и подготовку к сочинению, а результаты весьма мизерабельны. Суть в самом принципе преподавания этого предмета.
Филолог. Не буду вступаться за свою корпорацию, поскольку, признаюсь, школьная литература всегда наводила на меня непобедимую скуку, и я до сих пор читаю определенную часть русской классики с отвращением. Но в чем же Вы видите выход в преподавании предмета?
Литературовед. Этот вопрос нужно разделить на две части – теоретическую и практическую. В нынешней ситуации для школы в целом я не вижу никакого выхода, а для ребенка – расскажу чуть позже. Но – рассуждая отвлеченно – есть более целесообразный способ преподавать русский язык и литературу – я бы предпочел по старинке называть их вместе «русская словесность», – и заключается он в следующем. Во-первых, русский язык и литературу нужно не только по названию, но и по существу воспринимать как один предмет. Когда вы читаете на уроке, скажем, Пушкина – как эллины Гомера и римляне Вергилия, – вы должны читать ради эстетического наслаждения и усвоения благородных форм языка. Проблема соотношения классицизма, романтизма и реализма, место Пушкина в истории русской литературы вас и детей может не занимать: это внутрикорпоративные проблемы, не слишком важные для остальных. Точно так же не нужно стремиться к широте охвата: конечно, правильное чтение немыслимо без эрудиции, но в хорошей литературе достаточно и непосредственно воспринимаемых питательных элементов, для которых фон не столь принципиален. Строго говоря, ведь и большинство современных филологов не может читать Пушкина профессионально: для этого нужно хорошо знать французскую литературу XVIII в. в оригинале. И во-вторых, грамотность (как, впрочем, и владение нормами литературного языка) – это сгусток личного жизненного опыта, а не набор правил; либо этот опыт есть, либо его нет. Школа может, конечно, в определенной – весьма небольшой – степени помочь ему сформироваться и облагородить его. Однако на самом деле – не знаю насчет русского языка, но мне кажется, что между школьным подходом, как он сложился, и лингвистической и литературоведческой наукой – пропасть.
Лингвист. Вы, безусловно, правы. Хотя на самом деле это требует серьезного и подробного разговора. Впрочем, все ли присутствующие уверены, что научная достоверность обязательна для школьного преподавания?
Литературовед. В центре литературного преподавания стоит пресловутый «литературный процесс». Понимается он абсолютно неверно, поскольку реальный ход вещей был далек от поступательного развития. Если брать ситуацию XVIII в., то вершиной будут семидесятые-восьмидесятые годы – Державин, Херасков, Фонвизин, потом идет резкий перелом, спор карамзинистов и шишковистов, чьи точки зрения достигают синтеза в Пушкине. Его прямыми наследниками являются славянофилы; но инерция сороковых годов, определенное продолжение этого подъема – Баратынский, Гоголь, поздний Жуковский – постепенно сходит на нет, а потом начинается катастрофа. Отовсюду понабежали семинаристы – все эти Чернышевские, Добролюбовы, Помяловские, Благосветловы, Златовратские, Успенские, хамы и пьяницы. (Именно тогда возникла культура толстых журналов – этот симптом упадка, который сейчас мы по недомыслию принимаем за признак «классической» утонченности и высоты.) Писать разучились. Вы знаете, почему за границей никто не знает Пушкина, зато все в качестве style russe обожают Толстого и Достоевского? При передаче на чужой язык они ничего не теряют, магия слова им чужда в высшей степени, их сила – целиком и полностью в содержательной сфере; о Пушкине и Гоголе ведь этого не скажешь, они в переводе теряют все. И, конечно, лучшим критиком должен оказаться не невежественный Белинский, палач по собственной воле и могильщик по воле судьбы русской дворянской культуры, – единственной возможности положительной культуры в России, как правильно писал Г. Г. Шпет, – а рыцарь без страха и упрека Степан Петрович Шевырев, последний часовой на страже пушкинских ценностей…
Лингвист. Признаться, я не вижу большого смысла, вкуса и толка в критике заведомых благоглупостей. Эту крепость гарнизон покинул, и ее бастионы поросли густой травой… Я согласился уже с вами, что современные программы по русскому языку лингвистически несостоятельны. Частично – в рамках теоретической осторожности – это признание я должен взять назад, – ведь всем присутствующим известно, что ни по одному вопросу наука не может сказать своего последнего слова. Предположим, что все, что Вы говорили, верно. Но это ведет лишь к безмерному расширению программ, – кроме Белинского, Вы никого не выкинули, Чернышевского, кажется, выкинули и без вас, а Вы хотите добавить славянофилов…
Литературовед. Я, конечно, виноват в том, что чересчур отвлекся. Я хотел только продемонстрировать, что здесь мы не теряем ничего ценного, ни малейшей доли истины. По мне «филология» в преподавании словесности вовсе не нужна. Оболтуса-восьмиклассника заставляют читать Ломоносова и Фонвизина, чей язык ему непонятен, – а это ведь пик подросткового кризиса, стилистического противопоставления себя миру! Он с отвращением внимает тому, что ему во всех отношениях чуждо, в то время как в выпускном классе он смог бы оценить все это по достоинству. Тем более – скажу Вам по секрету – творчество Державина концентрируется на идее смерти, посмотрите его самые сильные куски – «На смерть Мещерского» в раннем периоде, «Снигиря» в позднем, самые мощные эпизоды в «Водопаде» – в семнадцать лет это так понятно и близко… Я, конечно, настаивал бы на Хераскове, на Муравьеве, но это уже личное. Можно сдержать полет фантазии.
Филолог. А что делать в восьмом классе?
Литературовед. То, что близко и понятно, – читать современную литературу. Я не «Анну Каренину» имею в виду, а вообще XX век.
Филолог. То есть опрокинуть пирамиду?
Литературовед. В грубом приближении – да. Сначала знакомить с произведениями, дающими хорошие образцы современного языка, потом приучить к языку классическому, затем дать резерв, своего рода «неприкосновенный запас» в виде архаики. И сочинения должны быть направлены не на «раскрытие темы» – нет ничего гнуснее этого решения отвлеченных проблем, – а на формулировку своих мыслей красивым и правильным русским языком. Историк нам скажет, насколько это соотносится с нашей педагогической традицией.
Историк. Безусловно, эта проблематика так или иначе и обсуждалась, и решалась до революции. Сначала требовалось отделить преподавание русского языка от латинского, да и вообще как-то аргументировать его преподавание; ведь считалось, что правила риторики и поэтики для всех одни. Н. Н. Поповский, любимый ученик Ломоносова, произнес в первый год существования Московского университета «Речь, говоренную в начатии философических лекций», где в конце доказывал, что русский язык богаче латинского (на тот момент это было явным преувеличением, да и сейчас можно поспорить) и что нет такой мысли, которую нельзя было бы выразить по-русски. Если этот пафос существовал, значит, у него были и противники, и ворота были раскрыты не вполне. Но, скажем, в Московском благородном пансионе еще в начале XIX в. довольно часто преподавание русского и латинского языка осуществляется одними и теми же лицами; в университетских гимназиях охотно занимались переводами с древних и новых языков на русский и обратно и отрабатывали стилистику на их разборах; нужно сказать, что мне это представляется наилучшим способом стилистической выучки, когда можно показать весь ход от грубой дословности до воспроизведения мельчайших оттенков чужой мысли на своем языке. Современное преподавание новых языков, направленное прежде всего на разговорную речь, мало и плохо знакомящее с художественной литературой, неспособно решать эти задачи. Потом постепенно сформировалась русская риторика и поэтика – литературный курс в первой половине века, насколько я себе его представляю, представлял собой упрощенный для школьных нужд технический разбор. Как на недавние исторические события, так и на новейшую литературу накидывался покров, зато древностям уделялось большое внимание. В этой атмосфере попытки внести в школу произведения последних лет и связать их с историей общественной мысли (что довело советскую школьную литературу до полного разложения) воспринимались как струя свежего воздуха. Творцы русской классической гимназии не видели в русском языке и словесности большого смысла; выдающийся ее теоретик М. Н. Катков писал: «Было бы полезно сократить время на такие предметы, которых преподавание нередко причиняет большой вред. В ряду этих предметов самое видное место занимает т. н. русская словесность, то есть тот сбор жалких обрывков из эстетики, истории литературы и из журнальных критических статей, который есть истинный крест для всякого порядочного учителя, а молодых людей приучает к фразерству и верхоглядству». Любопытно, что здесь сходились крайности; вот оценка его злейшего врага, Писарева: «Под именем теории словесности укрываются, с несвойственною им стыдливостью, риторика и пиитика – те самые науки, которые до сих пор открыто свирепствуют в семинариях, отравляя жизнь бурсака и наполняя его несчастную голову непроходимою чепухою». Историю литературы он клеймит еще более яркими выражениями: «Сохранять от забвения имена таких людей, которых идеи и поступки не имеют уже никакого влияния на нашу умственную жизнь, – труд тяжелый, неблагодарный и, кроме того, всегда безуспешный». Пирогов, выступавший за классицизм, но в более мягком, нежели Катков, варианте, считал иначе: «Я приписываю высшую образовательную силу исключительно глубокому изучению древних языков, языка отечественного, истории и математики. Я сошлюсь в этом на вековой опыт, который, вопреки всем возгласам противников, все-таки доказал, что изучение этих наук одно и само по себе уже достаточно образует и развивает дух человека, приготовляя его к восприятию всевозможных – и нравственных, и научных – истин. Оно достигает этой цели, имея предметом преимущественно мир внутренний (субъективный) человека (т. е. самого себя), открываемый религией, словом и историей, и мир внешний (объективный), исследуемый математикой в ближайшей его связи (через отвлечение) с миром внутренним». Русисты в общем и целом согласились с тем, что главные задачи должны решать классические предметы, и Ф. И. Буслаеву пришлось им напоминать, что одно чисто формальное изучение памятников литературы невозможно, что им все равно придется затрагивать на уроках содержательные аспекты. Но, что касается т. н. Серебряного века, я рекомендовал бы для свежести впечатлений фельетоны Дорошевича. То, что он описывает, весьма похоже на сочинения советской эпохи. Я прекрасно понимаю всю сумбурность своей реплики, но уж прошу прощения: четких периодов с точными датировками я сейчас дать не могу.
Лингвист. Да их сейчас никто и не требует, если даже признать их возможность (в чем я лично сомневаюсь). Какой позитивный опыт можно из этого извлечь для наших сегодняшних нужд?
Историк. В качестве положительного примера можно рекомендовать опыт Московского благородного пансиона. Пушкину не повезло, он учился в другом месте, гораздо худшем, но список людей, прошедших через руки Прокоповича-Антонского и его коллег, впечатляет: Жуковский, Лермонтов, Грибоедов, Милютин, из менее известных – Писарев (водевилист, а не критик), Дашков (министр юстиции и по совместительству переводчик эпиграмм Палатинской антологии), Шевырев.
Литературовед. К этому надо добавить Милонова (мало кому известно, что подзаголовок своей сатиры «К временщику» и ссылку на Персия Рылеев позаимствовал у него, как и общий пафос стихотворения, и многие подробности). И уж совсем никому не известно, что реально Рубеллий фигурировал у Ювенала в VIII сатире, откуда Милонов его и позаимствовал.
Филолог. Вы полагаете, что не знающий этого школьный учитель недостоин существовать?
Литературовед. Вы преувеличиваете, но только несколько преувеличиваете. В принципе, я не вижу ничего плохого в том, чтобы работающий с детьми человек обладал эрудицией.
Филолог. К сожалению, среди нас нет ни одного человека, преподающего русский и литературу в школе, так что за учителя бедного и вступиться некому. Я попытаюсь взять эту роль на себя. Во-первых, конечно, хорошо видеть в педагогике искусство утонченных знатоков; но когда это удел многих, среди которых талантливых заведомое меньшинство – а от учителя мы и не имеем права требовать таланта, а только определенного круга знаний и добросовестности, – нужна технология. Нужен массовый продукт. Здесь утонченные соображения качества должны отходить на второй план: результат нам требуется достаточно простой, но добротный. И желательно с отработанной технологией, которая по определению не может быть технологией ювелира. Без Милонова на самом деле можно обойтись. Долой соображения научности программ, эстетического аристократизма, мировых тенденций, даже и педагогического опыта, – все прекрасные вещи, о которых шла речь. Нужно зафиксировать какой-то возможный уровень и добиваться его железно. Я думаю, мне позволено будет не распространяться о пользе грамотности и наук?
Литературовед. Сие позволить можно лишь от большой снисходительности. Я бы, скорее, – возможно, ехидства ради, – рассуждал о вреде грамотности и наук, и даже согласие в данном пункте с нелюбимым апостолом невежества Руссо не воздержит от этого. Ведь писал же наш знаменитый антикварий М. А. Дмитриев:
Да и грамотность народа
Разведет одних плутов.
Реально ведь как обстояло дело: для того, чтобы знакомиться с содержанием рекламы (на либеральном Западе) и речами диктаторов (тоталитарный Восток), читать должны были уметь все. Теперь есть телереклама и телевыступления, и необходимость отпала. В США много, по слухам, неграмотных, – это заботит их в чисто отвлеченном, а не реальном духе, поскольку телерекламу они воспринимать способны, а больше ничего от них и не требуется.
Лингвист. Ох, не любите вы, коллега, простой народ с его модальностью винопития и мордобития. Играете вы, коллега, под профессора Преображенского – тем более упорно, чем меньше комнат Вам оставила советская, а потом демократическая власть. Чем бесперспективнее этот социальный расизм, тем он яростнее, – Вы еще предложите Манифест от 19 февраля отменить.
Литературовед. Большим сторонникам здоровых форм народоправства я посоветовал бы взглянуть на рациональную сторону современных политтехнологий – не только наших, и западных также. Это тоже продукт определенной массовой школы, не правда ли? Меня сейчас занимает не это. В любом здоровом обществе нужна элита, и желательно, чтобы она обладала еще и иными качествами, кроме невежества и самоуверенности. Неужели я виноват в том, что во всем образовании меня занимает только этот вопрос, – у меня нет никакого массового проекта, но любой массовый проект обречен и обрекает страну, если в нем не будет отведено места для более высоких форм, которым нужно, конечно, предусмотреть и иные ограничения. Незнание того, другого, третьего, двадцать пятого, чего угодно можно простить и допустить, но незнания в принципе, незнания чего бы то ни было ни простить, ни допустить нельзя. А наш винегрет не готовит никого: ни гуманитариев, ни естественников, ни трудяг, ни эрудитов. Это некий вид гегелевской отмычки, одинаково плохо открывающей все двери. Но мы отвлеклись, – признаюсь, уже по моей вине исключительно – от Благородного пансиона. Пусть Историк нам расскажет, в чем заключались его преимущества и каким образом в буйных и грубых ученических сердцах поселялась любовь к изящной словесности.
Историк. Попробуем. Центральных фигур здесь будет две – инспектор и директор А. А. Прокопович-Антонский и талантливейший выпускник, председатель Дружеского литературного общества В. А. Жуковский. Интересно, что в своей работе «О воспитании» Антонский выдвигает энциклопедическую программу и вовсе не концентрирует внимания на русской словесности; это получалось само собой. Он создал в Пансионе атмосферу, в которой литературные опыты поощрялись, приглашал знаменитых писателей, прежде всего Карамзина, с которым его связывала искренняя дружба; заседания Общества любителей русской словесности проходили в здании пансиона, и ученики могли на них присутствовать. В пансионе издавалось множество журналов, где лучшие работы могли публиковаться. Кстати, Я. К. Грот считает, что в Царскосельском лицее литературный расцвет вызвали пансионские дрожжи: из Москвы туда переехали Кошанский и несколько учеников. В «Законах Собрания воспитанников» от 12 Генваря 1801 г. было сказано: «В каждом Заседании члены будут читать, по очереди, речи о разных, большею частию, нравственных предметах, на русском языке; будут разбирать критически собственные свои сочинения и переводы, которые должны быть обработаны с возможным тщанием; будут судить о примечательнейших происшествиях исторических, а иногда будут читать, также по очереди, образцовые отечественные сочинения в стихах и прозе, с выражением чувств и мыслей авторских и с критическим показанием красот их и недостатков». Здесь, конечно, виден тот способ, за который ратует уважаемый Литературовед; а вот и законы Дружеского литературного общества под председательством Жуковского: «Мы все так высоко ценим лестный талант трогать и убеждать других словесностию, мы все удивляемся тем великим умам, которые в бессмертных своих сочинениях заронили какую-то божественную искру, могущую возжечь в сердцах позднейшего потомства любовь к Добродетели и Истине, которым служить есть единственная наша должность; мы все льстимся найти и образовать в себе этот бесценной талант. – Да будет же сие образование, в честь и славу Добродетели и Истины, целию всех наших упражнений». Третья фигура – А. Ф. Мерзляков, плохой, быть может, ученый, но вдохновенный лектор, замечательный преподаватель и человек с большим вкусом.


