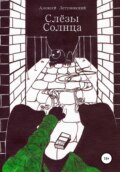Алексей Летуновский
Подражание уставшему
Где-то там – наверху
Я стою. Я сижу. Я бегу. Я лежу. Я жду трамвай. Я жду трамвай, он увезет меня вдаль. Вдаль – вверх по обычной дороге вверх – в зимнюю морозную затуманенность.
А я стою и жду трамвай. Так надо. Нельзя его не ждать, ведь надо его ждать. Я так не хочу, но что вообще здесь зависит от меня? Лишь то, что я сделаю в этот момент, когда стою. Я стою и жду трамвай, я задыхаюсь, мне не хватает воздуха, он уходит туда, куда должен идти трамвай, но трамвай, подлый трамвай, не приходит и заставляет меня задыхаться.
Я жду трамвай. Я задыхаюсь. Болит моя голова, и туманность-морозная туманность зимы – она вся просачивается сквозь меня, и я не вижу ничего, кроме рельс. Железных длинных рельс, плавно поднимающихся вверх по дороге. Легкие становятся тяжелыми и пустыми.
Я на коленях жду трамвай. Никогда бы не подумал о том, что на коленях буду ждать трамвай. Я жду трамвай. Он не приходит, не приезжает, не приплывает и не прилетает. Появись хотя бы. Нет. Нет трамвая и нет никого, нет воздуха в легких, и я ищу его своими губами, но не нахожу и лишь скрючиваюсь в бродягу на асфальте.
Воздух есть вверху – там, куда едет трамвай, но он не едет, его нет. Совсем нет. И я иду за воздухом, я умираю, но продолжаю идти. И все что я сейчас делаю, так это ловлю рельсы взглядом, ловлю твои мысли головой, ловлю кислород руками. Я падаю и поднимаюсь, я ищу. Я ищу ищейкой то, что нужно искать. Я слышу трамвай. Он едет. Иду и я. Чух-чух-чух. Спасительный звонок. Он проезжает мимо.
Я вижу в замерзшем окне твое грустное паническое лицо. Оно смотрит на меня, но сама ты совсем не здесь – ты в трамвае, которого я не дождался. Трамвай едет туда, где хорошо. Я остаюсь здесь. Я падаю. Я медленно качусь вниз. Я задыхаюсь. Голова трещит, все внутренности сдавливает. Я не могу. Я не могу ничего, кроме того, как провожать взглядом твое грустное лицо, и трамвай. Тот самый трамвай.
И я синею. Синеет мой нос, и он совсем не чует кислород. Он просто служит умирающему лицу. Прощай, – это все, что могу я сказать. Прощай, – это все, что слышу я в ответ от трамвая. И я чую. Нет, совсем не кислород. Я чую запах твой. Это спасительный запах служит мне кислородом в те мгновенья, как ты пытаешься привести меня в чувства.
Поздно.
Уже слишком поздно. Извини, что не дождался трамвая. Извини, что не заплатил за проезд. Извини, что не плюхнулся рядом с тобой, что не поцеловал тебя, приветствуя. Извини, что ты не смогла укутаться в меня, закрыть глаза, и оказаться там, где поют певчие птицы. Извини, что трамвай не доехал. Извини, что сейчас ты мертво лежишь рядом со мной, сжав мои пальцы. Извини, что я полз, а не стоял. Извини, что я задыхался, и задыхалась ты.
Так надо. Извини, трамвай был последним.
Спасиба!
Посреди двора, серого от дождя и полного грязных луж, стояло голое октябрьское дерево. Его ветви плотно накрывали песочницу, песок которой тускнел с каждым днем, а также частично покрывали узкую дорогу. На самом кончике такой ветки, над самым океаном луж дороги висел единственный выживший яркий, зеленый листочек. Казалось бы, все листья давно уже засохли и опали, их смели в одну кучу дворники, сожгли дети, и их пепел тихонько развеялся в дыме от костра, смешавшегося с воздухом. А этот зеленый, свежий листочек все не отрывался, все держался, все жил.
По океану дорожных луж пронесся ржавый, или оранжевый, кто его разберет, запорожец. Маленькая грязная волна маленько хлынула в песочницу и растворилась, оставив мокрое пятно на мокром песке.
В окно третьего этажа смотрела морщинистая бабка, о чем-то грустно задумавшись. Может быть, она смотрела на полный жизни, единственный зеленый листочек и удивлялась его стойкости.
На кухне пахло свекольным борщом, луком и жареным мясом. Толстый, но белоснежный кот нагло расправил свое брюхо на стиральной машинке «Чайка», вилял хвостом, вдыхал запахи будущего ужина и вяло посматривал на бабку, задумчиво смотрящую в окно.
Он видел, как ее седые волосы, собранные в пучок плавно двигаются по ходу ее дыхания, как шевелится ее голубой халат с ярко-красными маками от потока воздуха из открытой форточки.
– Не выдержал, – прокряхтела бабка. – Не дожил до ноября наш листочек, Мурзик.
Она всхлипнула, резко взяла поварешку с подоконника и принялась монотонно размешивать жидкий ужин в большой кастрюле.
– Данилка-а-а-а! – крикнула она, и вскоре по коридору, ведущему на кухню, послышался топот детских ножек. Пухленький мальчик с длинной русой челкой торопился к бабушке, проводя рукой по бледным обоям.
– Да, баб! – воскликнул мальчик и принялся тискать кота.
– Руки вымой, – заметила бабушка и потрепала внука по русой челке.
– У, какой богатырь уродился, – добавила она, принявшись мять мягкие щечки мальчика.
Он шлепнул кота по бедру, отчего тот с нервным мяуканьем бросился прочь под холодильник. Данил открыт кран и тщательно теребил правую кисть своей плюшевой руки о левую. – А я новую игру установил!
Бабушка лишь улыбнулась, но не ответила. Она наливала красный борщ в глубокую тарелочку с зеленой каемочкой, доставшуюся ей 25 лет назад на распродаже в «Васильке».
– Там крутые тачки, их можно так ломать. Тыщ, дыщ, тыщ. Крутая игра, баб! – все никак не умолкал малой, полный восхищения.
– Ешь давай., а то остынет, – спокойно ответила бабушка, нарезая треугольными ломтиками свежий, хрустящий и пахнущий счастьем, белый хлеб.