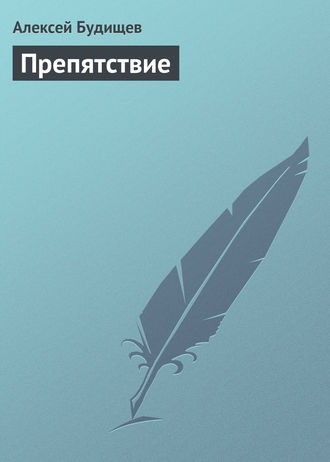
Алексей Будищев
Препятствие
Она мне говорила все это, и в её глазах светилась такая бесконечная любовь к этому несуществующему ребенку, что я возненавидел его в ту минуту настолько же сильно, насколько она его любила.
Она сумеет побороть в себе страсть ко мне ради этого несуществующего лица, ради этого мифа, – я это хорошо понял, – и моя страсть разобьется об этот миф вдребезги. Я готов был рвать на себе волосы.
Я сказал, что женюсь на ней, что препятствий к этому не будет, так как та женщина скоро умрет.
Она прошептала: – Кто знает?
И гении её глаз повторили: – кто знает? Может быть, она проживет долго!
Я не виноват, я не виноват!
Она ушла от меня…
Целый месяц я переживал ужасные пытки, Все ночи я лежал без сна, с открытыми глазами и мучительной тоской на сердце, и думал, думал.
Я думал: зачем та женщина живет? Кому нужно её ужасное существование? Кроме мучений у неё нет ничего, решительно ничего, и её смерть прекратила бы и её пытку, и нашу. Её смерть сделала бы счастливыми троих – и ее, и нас.
Но она жила, так как я по-прежнему делал ей три раза в день спасительные впрыскивания; поддерживая её мучительное существование морфием.
Как я страдал, как я страдал!
Между тем моя страсть росла с каждым днем и поднимала меня в заоблачные высоты, откуда весь мир человеческих отношений казался мне ничтожным. Я видел его с точки зрения моей страсти. Иначе я не мог смотреть. А мой философский трактат делался для меня все яснее.
И вот я снова встретил эту девушку в саду. Я увидел ее издали. Она сидела на зеленой скамье все в той же неподвижной позе, и её взор был устремлен, вероятно, помимо её воли, на крайнее окошко дома, настежь распахнутое. Там, у самого окошка, в небольшой комнатке виднелась громоздкая кровать и фигура лежащей на ней женщины. Её желтое, как высохший лимон, лицо, изрытое морщинами, резало глаза девушки, и по её телу бежал трепет и выражение безнадежного отчаяния. И вдруг в её не умевших лгать глазах блеснула мысль, или вернее намек на мысль. Я ее понял сразу, несмотря на то, что она появилась и исчезла с быстротой молнии. Девушка глядела на ту страдалицу и думала: «зачем ты живешь и подвергаешь меня пытке?»
Бледные пальцы её рук хрустнули; внезапно она сделала жест, намереваясь встать и уйти, уйти от этого жёлтого, как лимон лица, от своих мук, от той ужасной мысли. Но она осталась так как я подошел к ней. Она оглядела меня подозрительно, – не прочел ли я её мысли, – но затем успокоилась и подвинулась было на скамье, чтоб дать мне место рядом.
Однако, я не сел и взволнованно заходил перед скамьею, ломая руки. Она сидела передо мной вся бледная и виноватая, боясь поднять на меня глаз, ожидая моих слов, упреков, жалоб. Но я молчал в волнении. Несколько минут длилось напряженное молчание. Только зеленый сад благоухал и дышал таким избытком сил, такою полною жизнью, такою радостью существования, что это дыхание кружило мою, и без того опьяненную, голову.
Наконец я заговорил. Это была все та же старая песня, которую я вел вот уже месяц.
Я говорил. Нет она не любит меня эта девушка!
Если любят, не избегают встреч; если любят – не рассуждают; если любят – не боятся предрассудков. Страсть сильнее их, и она ломает эти предрассудки в щепки. Страсть – это всемогущество, благотворный ураган, проникновение божества. И пусть эти ураганы сметают с лица земли все предрассудки, все до единого! Так нужно, нужно, нужно. Чтобы было, если бы Галилей, боясь предрассудков, не сказал своего «вращается»? А разве не страсть одухотворяла его в те минуты? А гении и пророки? Разве все это люди не гигантских страстей? И пусть она полюбуется, как они ловко прыгали через все предрассудки, сшибая их гнилые пеньки своими сильными ногами! И вся история человечества не есть ли ломка предрассудков? Страсть – это божество. Она сама диктует заповеди, а предрассудок их рабски исполняет, пока новая страсть не выметет их, как дрянной сор, и не создаст новые. Страсть говорила: «Око за око, и зуб за зуб». И страсть сказала: «Люби и прощай». Страсть – это великий первосвященник, имеющий на земле власть все разрешить и все связать. Я говорил так, или приблизительно так. И ломая руки, я стоял перед нею сильный и могучий своею страстью. Она молчала и сидела передо мною бледная, с опущенными глазами. Казалось, она боялась поднять их, чтобы не выдать своей тайны. А я все говорил и говорил.







