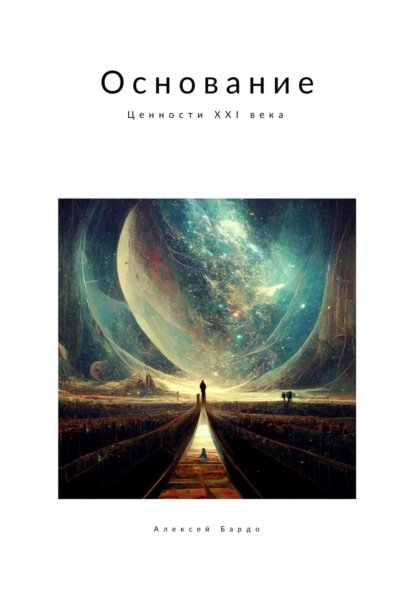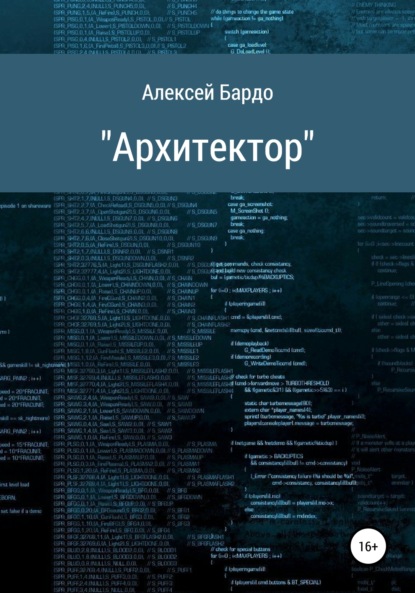Полная версия:
Алексей Бардо TextuRes
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Алексей Бардо
TextuRes
Холодные текстуры
1.
Не проси меня ни о чём. Не говори, что нуждаешься во мне, что любишь меня, что подобен слепому без наставления и прощения. Не окуривай мои изваяния благовониями, как статую Бодхисаттвы, хоть и мне ведомо, чему должно быть. Я – не больше летнего ветра, капель дождя, что текут по твоему лицу, пения птиц в дымке изумрудного утра, шаманского говора морских волн. Я есть всё сущее.Я и есть ты.
2.
Щербатый гранит набережной. Ступаю неторопливо. Золото закатного солнца плавит кристаллы небоскрёбов. Переливы голосов. Мягкие, будто река, что ледяной змеёй окольцевала город. Небо наливается пурпуром, расходится бриллиантовой рябью в лужах. Жестоки годы! Блёклые воспоминания – сепия мятых фотографий под ногами, выпавших из развалины бархатного альбома. И не понять: были они, – майский дождь, мосты, ажурные перила набережной, зеркальные башни с отражением облаков, – или не было их? Были Вы, взгляд, брошенный небрежно (всё начинается со взгляда), или я обманулся миражом в душном воздухе толпы? Был тот день, или он ещё не настал? Жизнь в скитаниях за вашим отражением почти прошла…
3.
Что песок, что золото – всё одно. Когда откроешь последнюю дверь, неважно, чем набиты карманы. Если не искрился молодостью, ступая по мраморным парапетам храмов, то и нечего мечтать остаться по эту сторону. Нет вещи более могущественной, чем самопознание. Добравшись до глубины своего естества, становишься подобным брахману, для которого не осталось тайн. Поэтому, что толку в золоте, если сам не дороже песка?
4.
Кто-то считает на четыре четверти; постукивает ладонью по колену. Должно быть, вспомнил симфонию, слышанную в детстве. В высоком небе сошлись в битве ангелы. Кто победит, того и будет твоя душа. Ничего не поделаешь: сиди, наблюдай, чьё мастерство возьмёт вверх. Ведь ты уже за вратами, терять нечего. Только и осталось, что ждать, когда уведут обратно. А он всё постукивает, не унимается. Ему занятно глазеть на тебя – босоногое изваяние, задравшее голову кверху, где в ясном небе резвятся голуби. Откуда ему знать, что видишь их впервые над пыльными развалинами когда-то мирного города.
5.
День, изнывающий в тоске. Сыпет под ноги пёстрыми листьями. Я все жду, кто растолкует загадки – завтрашние, сегодняшние, вчерашние… Как одиноко светит солнце в седине неба! Помнишь, летом, кажется, в июле, каким оно было? И что теперь с нами стало? Ещё один год, или большая часть жизни – прожита? Всё раньше сумерки в комнатах. Уж не зажигаю очаг – незачем. Тенью скольжу по стенам пустого дома. Впрочем, пульсирует ещё жизни окалина, зажатая в кулаке намертво. И ничего, что осень: всегда проходила, и эта пройдёт. Только многозначительно ухмыльнётся вслед. А день, изнывающий в тоске, засыплет аллею листьями.
6.
Кто-то предпочитает получать и наполнять ладони, кто-то отдавать и наполнять сердце. Но мы все, как поток чёрной реки, получаем и отдаём, в конечном счёте, позволяя жизни не останавливаться. То, что мы имеем – ни хорошо, ни плохо. Это данность. И только мы вольны решать: жаловаться нам, гордиться, сожалеть, искать большего. Порой мы пользуемся подсказками других. Но кто знает, что у них на уме? Кто прозорлив настолько, что способен безошибочно определить, что тот или этот, представляясь другом, не ведёт к пропасти? Все ошибаемся. Безошибочны боги. Но мы не склонны ходить следами наших созданий.
7.
Кружевные стрелки часов подбираются к полночи. Замер в ожидании. Воспоминания о лете – четыре стены. Секунда, другая, третья – мантра Вечности. Тягучее движение времени: то вспорхнёт мотылёк у лампы, то скрипнет половица, то луна исчезнет в облаках. А я… То ли есть я, то ли меня нет – кто заглянет в комнату, не разберёт. Потому что в бытии моём извечно дыхание небытия. Я здесь и бесконечно далеко отсюда; витаю в эфире великого Нигде, как отшельник в туманном безмолвии. И только в первую ночь осени выхожу за дверь. И когда спрашивают, кто я, отвечаю: рыцарь потустороннего. И когда спрашивают, для чего я пришёл, говорю: расставить путеводные вехи к праведной жизни. И высоко над головой поднимаю факел. В карманах – драгоценные камни опыта.
8.
Искатель, чего жаждешь ты? Разве не всё тебе сказано танцами дервишей? Разве не осыпали тебя изумрудами знаний суфийские пророки Исфахана? Бредёшь по следу ушедшего каравана в надежде приткнуться к племени бедуинов и обрести покой. Но всё без толку. Вечность будешь скитаться по пескам, – не найти тебе ни одного погонщика верблюдов. Потому что ветер разметал вереницу торговцев, что заприметил ты со стен города, вглядываясь в зарево там, где небо сходится с землёй; ибо суть каравана – мираж. Обманулся ты в сердце своём, отправившись в нелёгкое путешествие. Но сам выбрал этот путь, посему нечего роптать! Оглядись – за тобой толпы жаждущих знания. А не тебе ли, обмерившему шагами пустыню, говорившему с её многочисленными мудрецами, что блаженствуют в цветущих оазисах, известно, что истину несёт каждый? То, что было когда-то игрой неба, земли и ветра, обманом, соблазнившим тебя, обрело плоть и кровь. И поиски твои завершены. Ведь во главе каравана ты – о, славный проводник, ведающий правду!
9.
Возле кроватей поэтов скомканы черновики. Безумцы! Скорчились под простынями в пыльных комнатах, насмотревшись в глаза бесчеловечно-человеческие, презрев яркую пустоту жизни улиц. В гнетущем уюте полумрака им слышатся синхронизированные взмахи рук, источающие ароматы бульварной парфюмерии. Сквозь щели плотных штор к ним пробираются рваные пульсации электрических флейт. Это мёртвые танцуют в рыжем тумане. Это автоматический город пробуждается (также автоматически) после принятого на ночь снотворного в виде благочестивых помыслов у въедливых экранов. За пыльными окнами августа – лихорадка движения, обострённая семафорами. В мутной лазури неба птицы оплели провода. Воздух утра, последнего перед натиском осени, до предела наэлектризован сигналами; он стал прохладным, как взгляды. Но выйдешь – задохнёшься от изворотливости тел, от суетности метро, от изощрённости машинерии железобетоники. Глаза окон твердят: всегда есть выбор – запереться в ужасе на засовы или следовать в канве чьего-то повествования. Но, так или иначе, всегда остаёшься элементом общей механики. И только мечтатели останавливаются, замечая краски осени, зарябившие в медной амальгаме реки.
10.
Солнце в молочно-персиковой дымке. Бриз ложиться на бронзовые плечи детей. Взгляд – на белый парусник, – выдуман, должно быть, романтиком, – он скользит по селёдочной спине моря прямиком в растёкшуюся по горизонту розовую желтизну заката. В его парусах трепещется едва живая мечта. Только поэт выразит её острой рифмой мысли. Остальные же скажут просто, – это свобода…
11.
Ветер порождает чудовищ, пляшущих на перетёртых в песок панцирях моллюсков. С пеной у рта чудовища хлещут скалы, желая расчистить себе путь. Но те, видевшие рождение и гибель скифов, сарматов и хазар, не отступают. И, кажется, не было времени, когда бы ни существовали они: штормовые волны и неприступные стены. Одухотворённый схваткой, взвешиваешь: в одной руке вечность, в другой – закат и рассвет. И как же мало сделано под человеческим небом! И как же многого жаль.
12.
Лёжа на песке, я слышу голоса храмов, погребённых под плитами тысячелетий. Ветра доносят отзвуки мистерий жрецов, воздающих должное богам. Святая земля, хранящая сакральные смыслы в первозданном виде! Как быстро сменили мы расшитую золотом парчу на рубище блаженных нищих! Ветер, зародившийся в горах, взлохматил море. Чем больше седины, тем яснее смысл жизни. На берегу, где камни зализаны солёной пеной волн, сошедший с пути прощается ангелами; избравший созерцание сам подобен им. Обречённый гений, в порывах бора и яростных набегах волн, раболепствующих у ног, он слышит дыхание дома. Значит, остановлено колесо перерождений. Значит, все дороги пройдены.
13.
Города-руины среди садов Озириса ждут воскрешения. Люди-руны великим жрецом брошены в песок. В нём по горло завязли античные храмы, где Изиде являлись ангелы, несущие сокровенное знание. Природа пользуется природой, и природа преодолевает природу – такова тайна алхимиков древности. В агатовом небе беспорядочно разбросаны звёзды. Я соберу их заново, перекрою карты, чтобы указывать кораблям неизведанные маршруты. И если кто-то возьмётся листать пожелтевшие ломкие фолианты в полумраке вселенских библиотек, тот увидит, что каждый новый день повторяет вчерашний. И пока города возвышаются над руинами, на землю не ступит новый человек.
14.
Геометрический вальс крыш и открытых окон. В каждом – праздник, в каждом – игра, исход которой – смерть. А нагретый до обморока голубой топаз неба дожидается, кто рухнет в него первым. Набраться бы наглости, да протянуть взятку Господу. Но, нет! Там всё расписано: кто, когда и за что. Да и странно говорить такое, когда сам в очереди. Казалось бы: сдайся! А ведь так хочется жить; размазать время, как последнюю горошину масла, выпить благоухающих трав и обмануть смерть, что заглядывает в окна, ухмыляясь играм людей. Но нечего с ней спорить. Пора её полюбить. Она – лучший советчик, ведь какой-то шаг человека обязательно станет последним.
15.
Полночь. Мерцание тысяч огней – окна – маяки для сбившихся с пути пьяниц и блудниц. Обнажённый ветер – предвестник осени; времени матовых звёзд и проблесков надежды. Полудрёма звонких ярмарочных каруселей; последние гимны веселью срываются в небо, где задыхаются. И растянутые над аллеями невротические гирлянды, и фонтаны, дно которых усеяно медяками, и бархатные лоскуты клумб, их приторно-горькие ароматы, и розовеющие от одного взгляда девицы – уже не вызывают восторга. Вот перрон. Вот поезд. Прощай, беззаботное побережье!
16.
Протуберанцы Солнца. Это раскалённое дыхание я чувствую кожей. Взобравшись по ступеням комет, ныряю в омут холодного безмолвия чёрной дыры, касаясь дна, где прошлое и будущее слились воедино. Раз за разом терпящий неудачу выбраться, сплетаю из нитей времени новую историю. Она про меня и тебя. Я верю – ты существуешь. Потому копаюсь в километровой толще тысячелетних снов, надеясь отыскать место, откуда ты явлена – наваждение, терзающее меня веками. И будь я бессмертен, провёл бы миллиарды лет в руинах священного города, мною же и разрушенного в отчаянии; слушал бы голоса планет, сокрытых в черноте бесконечности; складывал бы их слова в магические формулы, открывающие двери в усыпальницы богов. Но и так не разгадал бы тебя. Может, когда солнечный ветер унесёт мои обломки на орбиты чужих миров, ты явишься, чтобы собрать из меня целое. Я воскресну вновь в древнем царстве сумрака. И лишь отголоски прошлого будут сыпать загадками без ответов. Довольно с меня хороводов с мёртвыми звёздами и ледяными глыбами! Что толку от них, если не мыслят они о тебе? Я буду сгорать и возрождаться, я буду постигать пламя твоей мудрости под яростный хохот веков, в надежде увидеть когда-нибудь своё отражение в любящих глазах матери всего сущего. В твоих глазах! Я – пылающий Меркурий. Ты – Вечность.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.