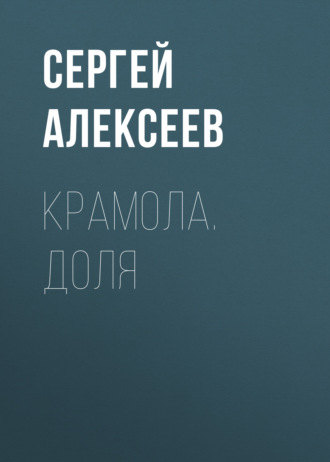
Сергей Алексеев
Крамола. Доля
Он распахнул двери и позвал племянницу. Юлия, видимо, стоявшая у плиты, вошла румяная, в белом передничке и с полотенцем на плече. Косынки, уродующей ее голову, не было, и волосы, стянутые бриллиантовой ниткой, доставали до пояса.
– У тебя все готово? – спросил Шиловский.
– Да, дядюшка, – почему-то испуганно произнесла племянница. – Чай будет позже…
– Хорошо, Юля, – одобрил он. – Ты пока займи нашего гостя, а я немного отвлекусь… Покажи ему книги, картины… А лучше наш живой уголок! Кстати, ты животных кормила?
– Нет еще…
– Заодно и покорми, – распорядился Шиловский и торопливо вышел из кабинета.
Юлия прикрыла дверь и, выждав, когда дядя уйдет подальше, виновато сказала:
– Я вижу, вам плохо, Андрей…
– Нет, ничего, – бросил он и отвернулся. – Мне весело… в гостях.
– Плохо, – повторила она. – Когда вы утром ушли, я поняла… Я во всем виновата.
– Не надо раскаяний, – перебил ее Андрей. – Не вспоминайте… – И неожиданно для себя пожаловался, словно больной: – Душа моя чужая… Грудь онемела, чужая душа.
– Вы же сильный! – Юлия дотронулась до шрама на щеке. – Вы очень сильный человек, Андрей!
– Да, конечно, – сказал он, взбодряя себя. – Простите.
– А на дядю не обижайтесь, – попросила она. – Не думайте, что такой надоедливый. Вовсе нет. Он всегда очень сдержанный, даже холодный. И немногословный. А мучает своими разговорами только тех, кого очень любит.
– Что вы сказали? – Андрею показалось, будто он ослышался.
– Мучает, кого любит, – повторила Юлия. – Есть такие люди…
– Да-да, есть, – согласился он, пытаясь осмыслить открытую племянницей тайну Шиловского.
– С другими он очень строгий, потому что беззащитный, – продолжала Юлия. – Он и пенсне носит с простыми стеклами. Чтобы не так было видно глаза.
– Любит, любит, – задумчиво повторил Андрей.
Юлия несколько повеселела и позвала кормить животных в живом уголке. Вначале он послушно отправился за ней, однако возле черного хода, откуда можно было попасть в комнату к животным, вспомнил, как утром входил сюда.
– Я был здесь, – признался он. – Утром.
– Знаю, – сказала Юлия. – И оставили открытым окно.
Андрей внутренне противился, не хотел еще раз входить в этот странный живой уголок, но и отказаться было неудобно. Тем более что чувства смешались, и он бы не смог так сразу и убедительно отказаться. Перед глазами был Шиловский, теперь совершенно непонятный ему человек. Андрей не мог вообразить, что тот комиссар, организовавший расстрел дезертира и прапорщика перед строем на берегу реки Белой, тот Шиловский, что невозмутимо пролежал в вагоне, когда вместо него вешали другого человека, может быть в представлении иных людей тихим, любящим и беззащитным. Пусть хотя бы для родственников! Может заниматься своим домом, семьей, разводить животных в живом уголке… А главное – у него могут быть люди, которых он любит!
Судя по словам племянницы, Андрей тоже удостоился его любви…
Он почувствовал желание как-то оправдать Шиловского, найти житейские, человеческие причины его поведению. «А почему бы и нет? – спорил он сам с собой. – Они ведь тоже люди, люди…»
И тогда все становилось понятно! Зачем Шиловский возится с ним? Зачем вытащил из тюрьмы, произвел в судьи? Да из обыкновенной человеческой благодарности! Из своей привязанности к нему. Из любви, наконец! Если ему не чуждо все земное, то ничего странного и таинственного в жизни Шиловского нет. Просто революционеры – люди непривычные, что ли, своего рода схимники, служители высокой идеи. Ведь и в революции оказываются самые разные люди: яростные и кроткие, злые и добродушные… но – все одержимые и потому похожие друг на друга.
А разве он сам не стал одержимым за последний год?
Андрей перешагнул порог живого уголка, и взгляд тут же остановился на аквариуме с муравейником. Он отвел глаза, но все-таки чувствовал – то боком, то спиной – живую, пульсирующую массу за стеклом, и холодок омерзения охватывал то бок, то спину.
Кроме муравьев и старого павиана, в доме Шиловского жило множество черепах, расползавшихся по комнате, и с десяток веселых, бойких белок, для которых был оборудован целый деревянный городок с решетчатыми теремками, переходами и колесами. Стоило Юлии достать с полки мешочек с земляными орехами, как стремительные зверьки вмиг повыскакивали из потаенных мест, промчались сложными винтовыми лесенками и очутились на кормовой площадке. Возникла забавная возня, но вот белки расхватали стручки, расселись столбиками и принялись совсем по-человечески добывать зерна.
– Такие прожорливые! – восхищенно сказала Юлия. – Но зато очень благодарные. Посмотрите, что они устроят, когда наедятся!
Восхищение ее показалось Андрею печальным и каким-то безрадостным. Он пошел к белкам и случайно наступил на черепашку. Поднял ее, мгновенно спрятавшуюся в панцирь, повертел в руках – неприятная животина, даже мерзкая…
За спиной неожиданно злобно и визгливо крикнул павиан. Андрей вздрогнул, и на глаза вновь попал муравейник…
– Кузьма очень добрый, – словно извиняясь за этот крик, сказала Юлия. – От клетки устал… Дайте ему поесть, и он запомнит вас на всю жизнь. Подайте ему капусты.
Андрей положил в подставленную обезьянью руку несколько капустных листьев. Заскорузлой, старческой ладонью павиан принял корм, без жадности отщипнул ртом, будто попробовал на вкус, и показал красный отсиженный зад.
– В знак благодарности, – усмехнулся Андрей.
– Потому что вы не пожали ему руку, – заметила Юлия. – Сначала с ним нужно поздороваться, а потом давать корм.
– Неужели он запомнит меня? – спросил Андрей, вглядываясь в тусклые глаза обезьяны.
– Запомнит, – подтвердила Юлия. – Причем запомнит в лицо. Дядя считает это признаком разума. Кстати, Кузьма – аскет. Неделю без пищи – и не попросит. Ему привозили самку, на случку, а он заплакал. Наверное, от обиды. А может, от старости…
Павиан прислушивался и ел капусту.
– А муравейник… зачем? – спросил Андрей.
Видимо, она привыкла, что все входящие сюда спрашивают об этом и ведут себя одинаково.
– Дядина гордость, – объяснила Юлия. – Он нашел муравейник прошлой зимой в какой-то брошенной квартире. Будто хозяином был профессор, но куда-то исчез… Вернее, не куда-то, а в ЧК… И вот привез, поставил и любуется. Часами перед ним, как ребенок. Правда, можно смотреть на них часами, завораживает движение.
– Не расползаются? – Андрей приблизился к муравейнику.
– Почему-то нет…
Белки на кормовой площадке погрызли орехи и подняли веселую потасовку, так что содрогался деревянный городок. Бесконечно вращались беличьи колеса под бесшумными лапками, и это движение тоже завораживало.
Юлия закончила уборку и заспешила на кухню.
– Я здесь побуду, – сказал Андрей. – Посмотрю.
Проводив Юлию, он склонился над муравейником, испытывая колковатый озноб. Окажись все это в лесу – ни один мускул бы не дрогнул. Сколько раз в детстве, да и потом, уже взрослым, он ощущал какое-то восторженное чувство, когда весной на пригретых солнцем полянах обнаруживал муравейник. Тогда он казался олицетворением просыпающейся природы. Все вокруг еще мертво и безжизненно; еще лога и низины забиты снегом и синим льдом; еще не трескались почки на деревьях и трава не видела света, а тут, на самой вершине муравейника, уже кипит жизнь! Будто родничок, пробившись сквозь мерзлоту, выплеснулся и закипел, забурлил под солнцем. Обычно муравьев было немного – всего горсточка, и они почему-то не воспринимались как насекомые, как живые существа; скорее напоминали цветок. Можно было подолгу смотреть, чувствуя, как ликует очарованная душа, можно было поплевать на муравьев, потом подставить ладошку, и когда они окропят ее тончайшими струйками – вдыхать терпкий запах муравьиной кислоты. Или же, послюнив прутик, дать муравьям облепить его, а затем стряхнуть их и долго потом бродить по весеннему лесу, обсасывая прутик, втягивая в себя слегка пьянящий кислый сок. Андрею всегда чудилось, будто сок этот вовсе не от муравьев. Просто такого вкуса и запаха просыпающаяся земля.
Но как же неестественно и дико было видеть муравейник, заключенный в стеклянные стены и установленный в доме, в центре Москвы! Тысячи насекомых, повинуясь инстинкту, бесконечно двигались вверх и вниз по конусу и отчего-то вызывали омерзительное чувство. Они напоминали не муравьев, а некую единую живую плоть, странную по форме и бессмысленную по содержанию. Бессмысленность – вот что бросалось в глаза в этом движении и существовании.
Андрей подставил палец муравьям, пытающимся одолеть неприступную стенку, однако тут же получил укус. Он стряхнул насекомых обратно в аквариум и ощутил, как подступает тихое, злое отчаяние. Захотелось нарушить раз и навсегда установленную, благополучную жизнь этого муравейника. Он взял совок и разворошил стенку пирамиды. Что тут началось! Корка насекомых резко и одновременно сменила темп, муравьи устремились к разрушенному месту, началась свалка. А те, что оказались рядом с прораном, уже взялись за работу.
– Андрей Николаевич, пора к столу! – возвестил Шиловский, неожиданно появляясь за спиной. – Занятная штука муравьи, правда? Увлекательнейшая!
– Да-да, – несколько смущенный неожиданным появлением Шиловского, проронил Андрей.
– А вы, батенька, революционер! – засмеялся Шиловский. – Только, скажу вам, революции в муравейниках делаются вот так!
И он совком в три движения развалил весь конус. Легковесный мусор, перемешанный с муравьями, зашевелился как живой, резко запахло кислотой, и столб пыли заклубился в лучах заходящего солнца.
– Теперь им работы на неделю, – удовлетворенно сказал Шиловский. – Иначе они быстро погибают. Если есть корм, значит, должна быть работа. А работа – это жизнь.
– Чем же вы их кормите? – спросил Андрей.
– Я придумал способ, – сообщил Шиловский. – Простой и надежный. Хотя, прямо скажем, не очень гуманный. Одной черепахи муравьям хватает на три месяца… Кстати, панцирь они буквально отшлифовывают! А мой товарищ с Арбата делает из них великолепные портсигары и женские браслеты.
– Вы шутите? – не поверил Андрей.
– Какие уж шутки, батенька! – развел руками Шиловский. – Нужда!..
Андрей заметил черепаху, ползущую через комнату, взял ее в руки, головка и лапки моментально втянулись в панцирь. Она была неуязвима и неприступна, возможно, поэтому смогла спастись в страшных катаклизмах и дожить до наших дней; она была неприхотлива к пище, выдерживала безводье и жару – можно сказать, совершенное существо, способное жить вечно. Но что это за жизнь, если всюду надо таскать за собой тяжелый панцирь, свою крепость? А здесь и она не поможет: муравей проникнет в любую щель…
– Недоразумение природы, – вздохнул Шиловский, заметив интерес Андрея к черепахе. – Исчезли прекрасные и сильные животные. Каков был, например, саблезубый тигр! А мамонт?.. Парадоксы, Андрей Николаевич. Почему природа не пощадила их, а вот эту, прямо скажем, неэстетическую тварь оставила?
– Наверное, в этом есть смысл, – отозвался Андрей. – Выживает тот, кто может приспособиться к среде…
– Нет никакого смысла! – убежденно сказал Шиловский. – Запомните: природа нелогична. Это – стихия, неуправляемая стихия, которой чужда гармония! Вы знаете, когда я стал революционером? Когда осознал, что эволюция губительна для развития жизни на Земле. Только революция в состоянии спасти мир. Всякий мир, всякую материю! Только она способна единожды и навеки восстановить гармонию!
Андрею вдруг стало зябко. Он вспомнил Леса, эту призрачную страну, где люди утверждали Гармонию. Недолгое пребывание в Лесах уже подзабылось, в памяти стерлись лица, имена, осталось лишь ощущение таинственной потусторонней жизни, странного сновидения, пугающего здравый рассудок. Он старался вовсе не вспоминать тот отрезок жизни, боясь, что все это – признак затмения разума, душевного расстройства. Он помнил, что у него, наверное, есть врожденная предрасположенность к этому со стороны матери, и внутренне опасался, что потеряет контроль над собой и не заметит, как перейдет в другое состояние.
Он боялся стать блаженным.
Сейчас же, услышав это слово – «гармония», Андрей будто на мгновение вновь очутился в Лесах. И неожиданно для себя утвердился в мысли, что они, Леса, существовали и, верно, существуют на самом деле! Что это не бред, не фантазии больного разума – реальность! Причем точно такая же, как в этом доме. Нет, все было, было! Как есть сейчас Шиловский, его живой уголок с белками, черепахами и муравейником. Вот и павиан, живой, настоящий, выставив морду между прутьев решетки, пялится осмысленным, разумным взглядом…
– Теперь вы понимаете, что такое революция? – спросил Шиловский. – Что это не толпа на улице и не матросы в пулеметных лентах?
– Кажется, понимаю, – неуверенно, хриплым голосом ответил Андрей, не в силах стряхнуть с себя состояние зачарованности. – Но неужели… неужели возможно переделать природу?
– Можно. – Шиловский приблизился и заглянул в глаза. – Можно переделать и природу, и мироздание. Теперь уже можно. Революция – это начало новой эпохи существования жизни на Земле. А России выпала миссия великая, Андрей Николаевич! Каждый народ живет и развивается лишь для того, чтобы выполнить свое предназначение. Пробил час и русского народа! Отныне вся его история подчинена этому моменту, и нет больше тайны бытия России. Только такой жертвенный народ способен принести себя на алтарь новой эпохи. Великая миссия!
Притихшие в своем городке белки сидели смирно, и их остекленевшие глаза напоминали пришитые пуговицы. Печальный павиан по-стариковски щурился и, как слепой, ощупывал прутья решетки. Кипели муравьи в разоренном муравейнике. И только черепаха меланхолично и бездумно-механически ползла через комнату, скрежеща когтями по вышарканному, облезлому паркету.
Шиловский тронул Андрея за руку.
– Опуститесь же на грешную землю, батенька! Бывший офицер, а впечатлительный, как барышня. – Он засмеялся. – Хотя русская интеллигенция всегда отличалась прямо-таки дамской чувствительностью… Ну? У вас будет время осмыслить. А сейчас нам пора к столу. Я хочу вас представить друзьям и сделать небольшой подарок…
За столом он разговаривал, отвечал на вопросы и даже смеялся, когда смеялись все, только не понимал – над чем. Чувство, что он всецело подвластен окружающим его людям, обострилось, и теперь Андрею казалось, что он не просто лишен своей воли и зависит от чужой, а что над ним совершается подлинное насилие! Он чувствовал это во всем: не желал знакомиться с друзьями Шиловского, не до знакомств было сейчас, – и знакомился, улыбался и пожимал руки, говорил «очень приятно», «рад познакомиться», когда на душе было тревожно, смутно и невыносимо хотелось одиночества. Желудок не принимал пищи, а он ел щуку под чесночным соусом. Он не намеревался спорить с кем-либо, однако его вызывали на спор. Ощущая это насилие, он как бы внутренне соглашался с ним, признавал его необходимость, как послушник признает обязательность и неотвратимость монастырского устава. Единственное, на что он уповал и чем тешился, было ясной мыслью о скором конце этого вечера и гостевания в доме Шиловского. Будто перетерпев самую сильную боль, он уже смирился с болью послабее, и теперь оставалось ждать, когда она утихнет совсем. Надо было вытерпеть время.
Шиловский выпил вина и, достав ключи, стал отпирать сейф, вмонтированный в стену. Друзья его вдруг засобирались уходить. Березин тоже поднялся, однако Шиловский запротестовал:
– Нет-нет! Остался еще один торжественный ритуал! Прошу обождать. – Он вернулся с картонной коробкой и торжественно извлек из нее маузер в деревянной колодке. – Сегодня только узнал случайно, что вам не выдали оружия, Андрей Николаевич. Узнал и обрадовался. А то все раздумывал: что бы это подарить вам на прощание? Что можно подарить революционеру?.. Примите, Андрей Николаевич. От чистого сердца!
Андрей взял колодку и, ощущая тревожную страсть, словно перед атакой, вынул маузер. Последний раз он держал в руках оружие перед тем, как пойти в баню после карательной экспедиции на Обь-Енисейский канал. Тогда его разоружили.
Сейчас вооружали. Маузер был новенький, небольшого размера, но оттягивал ладонь. На месте деревянных накладок рукоятки – видно, был приготовлен загодя! – благородно поблескивала отшлифованная черепашья кость.
5. В год 1919…
Полковник Березин прибыл в свою вотчину в туманный полдень, когда от лютых крещенских морозов замерзали на лету воробьи. Никто его не ждал и не признал в лицо, поскольку ехал он в медвежьей полости с верхом да еще завернутый с головой в лисью доху. Он остановился у печального пепелища на месте отцовского гнезда, не выбираясь из кошевы, мрачно поглядел на огарки бревен и заснеженную печь, затем велел ехать на кладбище. Там он постоял у родных могил, вытер леденеющие на щеках слезы и отправился пешком по селу. Березино в тот час словно вымерло, лишь дымы стояли над крышами да собаки брехали на задворках.
Тогда он стал заходить в избы. А к первому зашел к Мите Мамухину, потому что вдруг увидел резные наличники от своего дома, наложенные кое-как на крохотные оконца, а возле ворот – полузанесенного снегом гипсового льва. Митя в тот момент спал на полатях, сын его, Ленька, – на печи, и лишь в углу под иконами сидела и пряла дочь Альбина. Полковник Березин поздоровался и снял шапку.
– Вставай, батяня, – даже не взглянув на гостя, окликнула дочь. – Это по твою душу пришли. Вставай, родимый, да мужайся.
Митю Мамухина обычно трудно было добудиться, а тут он как-то сразу очнулся и, свесив голову с полатей, долго смотрел на вошедшего. И вдруг признал:
– Барин! Михаил Иванович! Вот так гостенек пожаловал!
– Не радуйся, тятя, – осадила его Альбина, по-прежнему глядя в угол, где на гвоздике висела куделька. – Не радуйся, а плачь и проси пощады.
В этот момент с печи слетел Ленька, замахал полами тулупа и унесся в двери. И скоро крик его разорвал зимнюю дрему:
– Плачьте, люди! Просите пощады! Молитесь!..
Потом говорили, что людям в тот миг послышалось, будто в небесах, туманных и морозных, запела труба. Все проснулись от ее звука и обмерли, завороженные…
– В доме моего отца брал что-нибудь? – спросил полковник Березин.
– Да самую малость! – покаялся Митя Мамухин. – Мне ничего и не досталось, всё расхватали…
– Как же ты на грабеж-то решился? – вздохнул полковник.
– Дак этот наустил, ссыльный!
– У тебя же своя голова на плечах.
– А я – как все, – нашелся Митя. – Народ кинулся, и я туда… И то проспал, одни тяжелые предметы остались.
– Сегодня все отнеси назад, – велел Березин. – Потом нарубишь розог и жди своей очереди.
Полковник ушел, а Митя запряг лошадь, оторвал наличники, погрузил льва и поехал на холм. Тем временем Березин обошел все дворы, и народ потянулся на пепелище. Заскрипели на морозе сани, груженные скарбом, заохали, застонали бабенки, таща на плечах и саночках тряпье, зеркала да тяжелое медное литье. Только вот уже ни лошадей, ни скота у березинских не осталось: коров да молодняк прирезали на мясо, кони либо пали, либо взяты были по мобилизации. Как пришло, так и ушло…
Несли добро, сваливали возле заснеженной печи, а сами скорей за ворота. Всем было приказано розги рубить. Полковник Березин вытащил из кучи потертые уже барские стулья с бархатной обшивкой, поставил в рядок, чтобы человеку лечь, а сам с помощью солдат взгромоздил кресло на русскую печь, забрался туда и сел, завернувшись в доху. Солдаты облили керосином имущество и подожгли. Потом началась экзекуция.
Огонь разгорелся так, что рядом стоять было боязно, волосы трещали. Березин приказал мужикам раздеться до исподнего и стоять пока возле костра, дожидаясь очереди. Мужики, смущенные и послушные барину, входили в ворота, винились, раздевались и, подрагивая от холода, жались к огню. Полковник не куражился над ними, не издевался и не насмехался, когда очередной укладывался на барские стулья. Он будто из нужды совершал экзекуцию: коли положено виноватых пороть, так куда денешься. Говорили, что иные даже слезы на глазах барина видели. И будто он даже сказал однажды:
– Сгубили народ православный. Тысячу лет жила душа – и в один год пропала. Сгубили.
Экзекуцию совершали солдаты. Они грели розги над огнем, чтобы распаривались и не ломались мороженные, и пороли. Мужики кряхтели, терпели, а потом, одеваясь и глядя в землю, просили:
– Уж прости нас, Михаил Иванович, спасибо, что ума вставил.
Митя же Мамухин прикорнул у себя в санях и оказался последним. Когда дошел черед, солдаты уже притомились, да и имущество в костре догорало. Похлестали его кое-как, и полковник рукой махнул: дескать, хватит ему. Экзекуторы потолкали Митю – не встает.
– Вы что же, подлецы, насмерть его забили? – рассердился барин Михаил Иванович.
– Да вроде дышит, ваше высокоблагородие, – растерялись палачи.
Прислушались – а он спит, да еще похрапывает в обе норки. Солдаты засмеялись, растолкали его, встряхнули, и тут Мамухин вскочил, дико на всех посмотрел, потом вдруг плюнул в сторону барина, заругался и закричал:
– Смерть эсплататарам! Долой власть помещиков и капиталистов!
Народ, уже выпоротый, одетый и повеселевший, и слова не мог сказать от неожиданности. Полковник Березин велел вновь уложить Мамухина и всыпать уже как следует. Минут двадцать солдаты махали розгами – даже вспотели. Митя же Мамухин, встав, снова плюнул на печь.
– Не долго вам на тронах восседать! Грядет ваш смертный час!
Березинские сгрудились вокруг места экзекуции и застыли в изумлении: обликом-то вроде Митя, а по глазам и характеру совсем другой человек.
– Дак он, мужики, рехнулся! – догадался кто-то. – Вся ихняя семейка полудурки. А он вот чистый дурак сделался.
Митю в третий раз уложили. И теперь солдаты пороли так, что в одних гимнастерках на морозе остались. Бабы его уж жалеть стали:
– Батюшко Михаил Иванович! Да уж отпусти его, не забивай. Эвон не в себе он! Дак чего ненормального-то учить? Ужо пожалей!
Отпустили Мамухина из-под розог, но он вскочил на стул – босой, в исподнем – и к народу обратился:
– Что же вы терпите узурпаторов, люди?! Мы – не рабы! Доколе еще ходить будете в ярме и кланяться врагу трудового крестьянства? Или мало пролили крови и пота за царскую власть?
И дальше понес в таком же духе. Березинские только рты разинули и совсем окостенели на морозе. Полковник же спустился на землю и сел на стул рядом с митингующим Митей Мамухиным. Некоторые потом говорили, будто он плакал и от слез вся борода обмерзла. Когда речь Митина иссякла, а народ даже не шелохнулся и голоса не подал, Мамухин разгневался, столкнул барина со стула и сам тут лег.
– До смерти порите! – крикнул он солдатам. – Лучше смерть, чем с таким народом жить!
Березинские, видя такое, испугались, попятились со двора, кинулись прочь – только пятки засверкали. Солдаты, накинув шинельки на плечи, поглядывали на полковника – что прикажет? Да и розги кончились, одни охвостья под ногами.
– Бейте! – орал им Митя. – Порите насмерть, холопы! Да здравствует свобода!
Один солдат рубаху на Мите отвернул – может, рогожку подложил, бывало и такое, – нет, голая спина, синяя вся и уже пухнет, как подушка. Полковник Березин присел перед Митей на корточки, в лицо заглянул, но тот отвернулся.
– Ты же всегда тихий был, незаметный, – сказал полковник. – Я тебя хорошо помню.
– Был да сплыл! – резанул Митя Мамухин. – Убивай скорей! А то я теперь делов натворю!
– Нет, живи…
Полковник встал и велел солдатам одеть Мамухина. Солдаты насильно запихали его в штаны и пимы, натянули драный полушубок и кушаком подвязали.
– Эх-х, разбудил ты меня, – только и сказал Митя. – И еще пожалеешь, что не запорол.
И ушел со двора какой-то непривычно валкой, медвежьей походкой. Один из солдат незаметно для полковника вскинул винтовку, но затвор замерз и ударник «пошел пешком» – выстрела не получилось. Солдат хотел перезарядить, дернул затвор, да выбрасыватель не сработал, другой патрон уткнулся. Полковник заметил это и молча ударил солдата в лицо. Тот упал в снег, заворочался, закорячился, поднимаясь, но так и не встал, отчего-то заплакал.
Полковник вместе со своей охраной остановился на ночлег у Пана Сучинского. Долго не мог заснуть. Сидел возле пригашенной лампы, уставясь на огонек, едва мерцающий за темным стеклом, потом бродил по просторной избе, где вповалку спали солдаты, и к полуночи вышел на улицу. Его привлек скрип шагов в переулке, далеко слышимый на морозе. Полковник Березин пошел на звук и неожиданно увидел какую-то бабенку, которая, согнувшись в три погибели, несла уцелевшие от огня барские стулья, оставшиеся от экзекуции. Он не поверил своим глазам. Прячась в тени забора – а ночь выдалась лунная, без тумана, – Березин подошел ближе к переулку. Бабенка постанывала, пыхтела и чуть ли не срывалась в бег. А за ней, отставая и прихрамывая, спешил мужичок с креслом на горбу.
Полковник Березин прислонился к забору, вздохнул тяжело и перекрестился…
Пан Сучинский ходил потом по селу и всем рассказывал, что барин Михаил Иванович напился самогону и все пытал его, слепого старика: кому и каким образом удалось так быстро сгубить православные души? «Скажи-ка ты мне, старый бунтарь и смутьян, что это за сила, смутившая русский народ? – будто бы спрашивал барин. – Знаешь ли ты, видел ли ты хоть одного человека, силой такой наделенного?» Избежавший порки Пан Сучинский побаивался грозного полковника и твердил, что давно ничего не видел и не знает, поскольку слепой. Но сам про себя восхищался полковником Березиным и, говорят, частенько замечал: «Сердечный был человек, справедливый барин и душевный господин. Мало он вас, мужиков, порол, мало… Считайте, от Бога розог получили. Ведь он истинный Михаил Архангел!»
Ночью, после экзекуции, с полковником Березиным и палачами было покончено. Рассказывали, что Михаил Иванович даже не сопротивлялся. Его вели на расстрел, а он будто бы расспрашивал всех встречных – мужиков, партизан – и хотел выяснить одно: что же произошло с людьми и миром? Что?..
Он, видно, очень боялся, что не успеет узнать – прежде чем прогремит выстрел.
И не успел.
Но истина открылась ему в смерти.
Когда от неожиданного удара итальянцев по Березину и Свободному погиб партизанский командир Анисим Рыжов вместе со своими орлами, Митя Мамухин был одним из тех, кто сумел скрыться и уйти от смерти. Тогда он был простым партизаном, еще безвинтовочным, и ходил с огромным тесаком, самолично откованным Анисимом Петровичем. Командир сразу же приблизил к себе Мамухина, поскольку народ в Березине только и говорил о его храбрости и несгибаемости во время полковничьей порки. И впрямь глаза у Мити горели, будто у уросливого жеребца, и покрывались кровяными прожилками, если речь заходила о скорых партизанских походах.
– Ты мне ндравишься, Дмитрий! – говорил Рыжов. – У тебя вид геройский. Ежели он к весне не пройдет, когда Есаульск брать пойдем, я тебя в ротные командиры произведу.
Мамухин ждал весны, а пока набивал руку, рубая тесаком мелкую березовую поросль, колья и прясла. Но не сбылась мечта Анисима Рыжова, не довелось ему взять Есаульск и сесть там комендантом. Сгубили отважного вождя проклятые итальянцы-интервенты. И когда Андрей Березин привел из тайги основные силы и выбил захватчиков из обоих сел, Митя Мамухин понял, что пробил его час.
Сначала он попытался взять власть в отряде, объявив себя единственным наследником командира Анисима Рыжова. Однако Березин приказал арестовать Мамухина и запереть в амбаре. Митю заперли, но поротые полковником березинские устыдились, что самого смелого из них посадили под замок, и ночью выпустили его на волю.
– Видали? – сказал тогда Мамухин. – Весь ихний род такой! Погодите, он еще отомстит и за своего дядю, и за поместье. Попомните мои слова!
Той же ночью он обошел все дворы, где отдыхали партизаны, вышедшие из тайги, и предложил не ходить с Березиным, а остаться пока дома и собрать свой отряд. А Березин, мол, пускай командует чужаками, которых было уже две сотни штыков. Мужики тогда еще не особенно-то доверяли Мамухину, помня его по мирным временам, но больно уж хотелось пожить дома хотя бы месячишко-другой, вспахать землю, посеять, хозяйство поправить, а там и повоевать можно. Сразу никто согласия не давал, но задумались мужики, соблазн-то велик. Тем временем Мамухин уже был в Свободном и вел агатацию там. Свободненских погибло много от рук итальянцев, село воем выло, слезами заливалось, и с Митей никто не желал разговаривать.
– Хватит с наших-то! – кричали и бабы, и мужики. – Мы эвон сколь отдали. Хватит! Считай, с каждого второго двора по мужику. Не пойдем более воевать! Пускай теперь с березинских берут!
– А и хорошо! – подогревал Мамухин. – А и не воюйте!
Через сутки, когда отряд Березина должен был уходить, возникли смута и раскол. Березинские во главе с Мамухиным построились отдельно и заявили, что из села не пойдут, пока не посеют. Свободненские же вообще не явились на построение, и посыльный, прибывший оттуда избитый и обезоруженный, передал Березину ультиматум: мужиков в селе не трогать и насильному уводу в партизаны не подвергать. Иначе, мол, собьем свой отряд, и тогда лучше не попадайтесь в тайге.
И напрасно комиссар Лобытов говорил речи, напрасно Березин уговаривал уважаемых мужиков села – никто, кроме бывшего барского конюха Ульяна Трофимовича, с ними не пошел. Да и тот был весь обожженный, израненный, для войны никудышный – потому и отдали.
Березин уводил свой отряд под свист и улюлюканье. Степенные партизаны из богатых мужиков качали головами, говорили неодобрительно:
– Дурной народ в здешних местах. Ой, паря, дурной…
Мамухин хорошо помнил гибель славного вождя Анисима Рыжова. А потому собрал березинских партизан вместе с женами и ребятишками, привел к братской могиле и велел клясться, что будут соблюдать железную дисциплину и бдительность. Мужики клялись, а бабы причитали:
– Вы уж слушайтесь командира, ироды! Ведь детей сиротами оставите, хозяйство – без хозяина и нас овдовите!..
Ребятишки подпевали хором, теребя отцов за штаны:
– Тять, слушайся, тять…
После этого Мамухин ввел строевые занятия, организовал караульную службу и гауптвахту. Березино больше никто не тревожил, война шла где-то за Есаульском, а то и совсем далеко – у железной дороги, поэтому партизаны спокойно отсеялись и стали собираться в поход на Есаульск. Мамухин провел дополнительную мобилизацию, призвав на службу всех от шестнадцати до пятидесяти лет, и поехал в Свободное за пушками и порохом. Однако свободненские заупрямились и не захотели отдавать все пушки. И поделили не по справедливости: железные, кованые оставили себе, а березовые на тележных передках отдали соседям. Мол, ковал-то Анисим Рыжов, а он наш, свободненский. Скажите спасибо, что деревянные отдаем.







