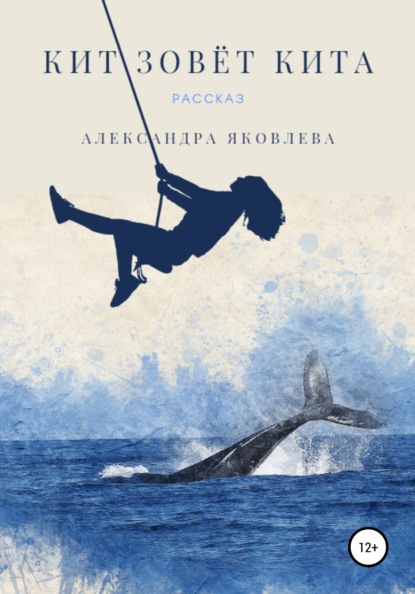Полная версия
Полная версияПолная версия:
Александра Яковлева Игра в оленей
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Ранним летним утром стойбище оглашается треском оленьих копыт: это стадо идёт с ночного выпаса. Авкают телята, путаясь в ногах у своих матерей, храпят молодые рогачи, заливистым лаем подгоняет их лайка Изок.
Маленький Ноляко, выбравшись из чума, встречает стадо: «Ты то! Ты то!» Это значит «идут олени». Это значит и «доброе утро». Всякое утро в тундре доброе, если олени вернулись на стойбище.
Вслед за стадом идёт и Сойти. Ему девятнадцать. Для тундры – взрослый мужчина, хоть с виду почти мальчишка. Ноляко подбегает, ввинчивает лобастую голову ему в живот.
– Поиграем в оленей?
– Лучше сестру позови. – Сойти рассеянно треплет младшего брата по светлым, как у матери, волосам. – Я спать.
– А когда папа вернётся, поиграешь?
– Обязательно.
Отец уехал в посёлок семь дней назад, и семь ночей кряду Сойти провёл в тундре на выпасе. Пока отец в отлучке, сменщика ему нет. В последние годы волки слишком уж расплодились и осмелели – Сойти охранял стадо, не смыкая глаз. Иногда проваливался в забытьё, но тут же пробуждался и таращился по сторонам в поисках врагов. За эти дни Сойти очень устал.
Майма встречает старшего брата у чума. Взгляд серьёзный, даже грозный.
– Слово есть, – разговор начинает по-взрослому, но Сойти обрывает:
– Нет, сестра. Что бы ни сказала – не слышу.
– Слышишь! – упрямится. – Следующую ночь я пойду.
– Выдумала.
– Я разве слепая? Совсем подурнел, под глазами черно…
– Про мою красоту не думай, – смеётся Сойти, – думай про свою. Если подурнеешь ты, бабушка нас обоих съест.
Майма дует алую губку, а Сойти любуется ею. Сестра у него красавица: круглолицая, темноглазая, кожа как молоко, а ярится – щёки вспыхивают спелыми ягодами. Такая в тундре стоит всего отцовского стада, и даже больше. Строптивая только, что дикий олень. Вот и теперь: хочет биться, хочет возражать.
Маленький Ноляко вдруг хватает её за руку, тянет:
– Майма-Майма, поиграем в оленей?
И Сойти сбегает от Маймы под полог родного чума.
В чуме тепло, пахнет шкурами, свежим чаем и молоком. На огне доходит завтрак.
У очага сидит мать. Имя её – Ксения – в семье почти забыто. Светлая славянская голова расчёсана на пробор, заплетена по-северному. Мать следит за пламенем, то и дело подбрасывает валежник. Работа мужчины – заботиться об оленях, её работа – заботиться об очаге. Огонь горит ровно, весело. Дымок тянется вверх, вылетает змеем в круглое окошко – и устремляется вдаль, в бескрайнюю тундру, к облачному горизонту.
Снаружи шум: маленький Ноляко и Майма спорят, кто первый будет охотником. Простая игра в оленей в тундре необходима. Растут дети – вместе с ними растёт и забава, становится уже заботой. Ещё совсем недавно Сойти тоже всего лишь играл. Теперь он входит в чум, уставший с ночи. На полудетском лице его тень, будто сам Хасавако проступает сквозь сыновние черты. Взглянув на сына, Ксения вздрагивает.
– Доброе утро, – говорит она. – Чаю попьёшь?
Сойти качает головой:
– Давай сперва стадо соберём.
***
Майма бежит вприскочку, топорщит над головой раскрытые ладони, будто рожки:
– Я олень! Олень!
Майме пятнадцать. Она подпрыгивает так высоко, что рожки её вот-вот уткнутся в белые пузатые облака. Ноляко – «охотник», и аркан в его руках, хоть маленький, вполне настоящий.
– Лови меня! – зовёт Майма.
Ноляко пытается повторять броски за старшим братом Сойти, но руки и ноги у него слишком короткие, несуразные. А голова, наоборот, огромная. Ноляко то и дело падает, запутавшись в ногах, противный аркан летит, куда попало.
– Лови меня!
Майма увёртывается, словно прыткий двухлетка. Поддавков от сестры Ноляко не ждёт: разве настоящие олени поддаются Сойти?
– Лови, Головастик!
И Ноляко, наконец, ловит. Прочная верёвка цепляет сестру за ногу – Майма падает, брыкаясь для смеху сильнее, чем нужно. Ноляко в полном восторге.
– Покорись! Покорись! – восклицает он, подражая старшим, и хлопает Майму по спине палочкой: так положено усмирять норовистых оленей. Майма дёргает спутанной ногой, бякает, как настоящий рогач. Вместе они хохочут, совершенно счастливые.
– Теперь меняемся, – Ноляко протягивает Майме аркан, но тут из своего вдовьего чума выходит бабушка. Она смотрит на Майму, всю в грязи, – и начинается:
– Взрослая девка, вот-вот замуж, а всё игры ей, всё игры… Ну, поднимайся, чего разлеглась? Загонять надо.
Майма встаёт, отряхивает колени. Даёт старухе опереться на свой локоть и медленно ступает вместе с нею.
– Я тоже помогу! – восклицает Ноляко.
На неуклюжих своих ногах он устремляется к стаду. Аркан волочится за ним, как хвостик.
– Уж ты поможешь, – ворчит бабушка себе под нос, медленно переставляя ноги. – Помогальщик…
– Ба, – просит Майма. – Ему же восемь. И он сильный. Самое время помогать.
Впереди Ноляко спотыкается, растягивается на брюхе, но быстро встаёт, словно ничего и не случилось.
– Ну, ты погляди! А говорила я сыну: вот тебе невеста, лучшая в тундре, бери! Нет, приволок дурную кровь с большой земли. Она и родила урода… Тьфу! Изорвалась вся – тоже бесполезная стала. Наказание наше.
– Ну, Ба.
Маленький Ноляко, наконец, прибегает к коралю – загону для оленей. Кораль самый простой: сотня столбиков, вбитых в землю по кругу, вместо перекладин – длинная верёвка. Ксения уже открыла проход стаду, держит один из концов верёвки. Со вторым обычно помогают Майма и бабушка.
Ноляко обнимает мать, забирается ей под руки, бодает в ладони, в мягкий полный живот. Это он у телят научился. Он похож на неё, как две капли воды: те же светлые, почти белые волосы, тот же прямой тонкий нос и глаза, серые, как олений мех.
Ксения мягко отталкивает Ноляко:
– Иди, сынок, иди, а то затопчут.
Стадо волнуется. Среди оленей бегают Сойти с Изоком, ловят крупного сильного рогача. Если усмирить вожака, остальные тоже покорятся и спокойно пойдут в загон. Но Сойти устал, и вожак легко увёртывается от петли его аркана.
Майма делает шаг к стаду:
– Надо ему помочь.
Цепкие пальцы старухи сдавливают ей плечо.
– Стой, позорница! Стой и держи кораль, как подобает женщине.
Майма умоляюще смотрит на мать, но та в кои-то веки согласна с бабушкой:
– Он справится.
И Майме приходится стоять столбом вместе с мамой, бабушкой и сотней других столбов, деревянных, пока измученный Сойти занят своим мужским делом.
– Держи крепко, – наставляет бабушка. Майма стискивает верёвку изо всех сил.
Маленький Ноляко опять крутится рядом: без дела ему тягостно.
– Мама-мама-мама, – тараторит он. – Мама, можно и мне подержать?
– Нет, сынок, нельзя.
– Мама-мама-мама, – дёргает её Ноляко. – Почему Майме можно, а мне нельзя?
– Потому что она женщина, – отвечает мама. – Отойди.
– Женщина? – Ноляко изумлённо смотрит на Майму, будто впервые увидал. – Вот повезло!
Майма фыркает:
– И ничего не повезло. Это тебе повезло, что ты мужчина. Вырастешь – будешь ловить оленей за рога. А женщинам достаётся только самое скучное.
– Самое важное! – возражает старуха. – Без женщины оленя не поймаешь, чум не соберёшь, огня не сохранишь. Без женщины в тундре жизни нет. Так-то. – Пожевав губами, добавляет: – Мать твоя – чужачка бестолковая, и ты туда же…
Ксения дёргает плечом, будто её ударили, но молчит. Она наблюдает за старшим сыном. Тот не без труда хомутает, наконец, вожака: покорись! покорись! – садится верхом и въезжает на рогаче в загон. Следом идёт и стадо, Изок подгоняет отстающих.
Когда все олени собраны, женщины смыкают концы. Потом опускают верёвку к самой земле, как заведено, чтобы Сойти мог выйти из круга поверху. Но когда вновь поднимают, маленький Ноляко вдруг проскальзывает под верёвкой, на женский манер, – и со смехом убегает прочь.
– Что ты?! – восклицает Ксения.
– Беду! – воет старуха. – Беду накликал!
Майма бросается в погоню за непутёвым братцем:
– Головастик, вернись! Переступи, как положено!
А Ноляко удирает со всех ног от Маймы и хохочет. Он ещё знать не знает, зачем мальчикам ходить поверху, а девочкам – понизу, почему Сойти нельзя трогать женские вещи и самому ставить чум, а Майме – ловить оленей. Он раскрывает над своей большой белой головой ладошки и зовёт:
– Майма, гляди: я олень! Теперь ты – охотник! Лови меня, Майма, лови!
***
В тундре, куда ни правь оленей, дорога одна. Начало её совпадает с твоим рождением, а конец теряется где-то за горизонтом. Во все стороны тянется даль невыразимая, полная раздольного, дикого воздуха. Ковром изукрашенным стелется тундра до самого неба, а меж землёю и небом – одна пустота.
Крепкие нарты Хасавако идут легко, ветер подгоняет упряжку. Кучевые горы громоздятся совсем низко над головой. Кажется: протяни руку – и ухватишься за кромку облака, прибавь ходу – и достигнешь края земли.
Хасавако родился во время зимней перекочёвки, и лишь в пути он жив по-настоящему. Долго сидеть на одном месте для Хасавако пытка. А ведь многие всю жизнь сидят сиднем, точно привязанные. Особенно в городах. Там-то все за землю держатся! Зарываются в самоё чёрное нутро, громоздят дома-колонны, мостят улицы – и всё кружат, кружат на одном месте. И как же много людей, как тесно в городищах! Одни только стены, заборы, границы. Смотрят искоса налево, направо: чего там у соседа? Всё поделено, порублено на куски, заперто на ключ, а ключ давно утерян.
Теперь вот на тундру зарятся. Впились в неё бурами, пускают чёрную кровь, выворачивают недра. Вроде полно уж, да будто печёт их жадность голодная. А тундра – она ведь общая на всех людей, и ничья притом. Так выступал на сходке старик Сэвси и тем разъярил он сердце Хасавако. Чёрные мысли теперь зудят в его голове. Чтобы сдуть их, как надоедливую мошку, Хасавако подгоняет оленей. Длинный упругий хорей так и ходит по их бокам.
Неделя в посёлке сжалась в один долгий смутный день, пёстрый от человечьих лиц и спиртного. В кои-то веки Хасавако говорил с людьми, а не с оленями. И как говорил! Даже язык припух с непривычки. Но дело улажено. На сходке Хасавако сговорился с достойной семьёй Сэвси: тридцать справных важенок за Майму и прочего разного добра в придачу. Он уже подсчитывает, какова будет прибавка к стаду, если каждая важенка на будущее лето принесёт по телёнку, и довольно причмокивает. Ладом пойдёт – через пару-тройку лет можно и для Сойти подыскать достойную невесту.
Хасавако полупьян и доволен собой, в нартах весело позвякивает запас на несколько перекочёвок. Жаль только, пить одному: жена от водки нос воротит.
Почти всю жизнь он знает её, девочку с большой земли. Знает с того давнего лета, когда девять чумов сообща встали на широкой реке. Хасавако и другие дети вернулись из поселковых школ-интернатов на каникулы в тундру, и одна девочка привезла подружку-славянку, чтобы показать, как живёт её кочевая семья. За светлые волосы и кожу гостью быстро прозвали Няравэ сэр – Белый олень. Все хотели с нею дружить и охотно принимали в игры, даже в мальчишеские. Однажды они играли в оленей, Хасавако был одним из охотников, а Няравэ сэр, конечно же, оленёнком. Он тогда не рассчитал, и верёвка сильно хлестнула ей по лицу, кожа на щеке лопнула. Сколько лет прошло – до сих пор видно шрам.
Бывало, они убегали в тундру, подальше от стойбища, и там находили самую большую и красивую лужу. Вода в ней отливала синевой, искрилась на солнце. По её поверхности бегали насекомые на тонких, изящных лапках, а на дне, среди тёмной сонной травы, копошились всякие головастики. Осторожно, чтобы не спугнуть потаённую жизнь, они ложились на животы, свешивали головы и часами наблюдали за тем, как колышется трава, как снуют мальки, как охотятся серебристые водяные паучки. Одни играли в солнечных лучах, другие держались тёмного дна – у всех было своё место в этой луже и в этом мире. Девочка тихонько пела им песенки на своём смешном языке.
Когда Белому оленю наскучивало наблюдать за лужей, она убегала и пряталась от Хасавако. Её макушка так и сверкала на солнце, но Хасавако притворялся, будто не видит, и звал на всю тундру: «Няравэ сэр! Няравэ сэр!» Так матери ищут детей в чуме, хотя отлично видят среди спальных шкур детские пятки.
Однажды Хасавако обознался и вместо белобрысой девчонки нашёл в зарослях настоящего белого оленёнка-сироту. То был знак, подарок тундры.
– Возьми его с собой, – предложил Хасавако, когда пришла пора прощаться.
Решение далось ему тяжело: оленёнок был чудо как хорош. Но Белый олень только засмеялась:
– В город? Мама не обрадуется.
И Хасавако оставил оленёнка себе. Прошло много лет, потомки того найдёныша теперь пасутся в стаде Хасавако. Белая шерсть их радует людской взор, а кровь угодна богам. Что же Няравэ сэр? Она вернулась в тундру и стала матерью троих его детей.
Впереди вдруг чудится крупный зверь, как будто олень. «Неужто мой?» – думает Хасавако. Он притормаживает, привычным движением вскидывает ружьё, смотрит в прицел. Похоже, его рогач: горбатая спина белеет среди травы.
Но вдруг олень дыбится, вырастает – и встаёт прямо, на задние ноги. По-человечьи. Рога вьются над ним, будто корона, и утреннее солнце золотит их. Человек-олень смотрит в упор на Хасавако, потом взбрыкивает и заводит дикую пляску. Он кружит и кружит на одном месте, всё быстрее и быстрее – вот уже только вихрь один, белый с золотом…
Миг – и пропало всё, как не было.
Руки у Хасавако дрожат так, что не могут удержать ружьё, и он убирает его за спину. Спина взмокла под лёгкой летней малицей. Хасавако достаёт из-за пазухи початую бутылку, свинчивает крышку, делает два судорожных глотка прямо из горла. Осторожно подъезжает ближе к месту, где видел призрак. Ничего. Только трава примята, будто кто-то лежал в ней совсем недавно.
***
Сойти спит, зарывшись в шкуры. Олений мех мягко обнимает его, обволакивает, как вторая кожа. Ему снится привычный сон: будто он олень, молодой и быстрый. Тундра под его копытами красная, какая бывает только короткой осенью, но Сойти откуда-то знает, что это кровь с его отмирающих рогов. Сойти бежит – но, как часто бывает в таких снах, продвигается с трудом. Ноги его вязнут в какой-то чёрной жиже, что бьёт из-под земли. Вдруг он слышит далёкий перезвон колокольчиков. «Это отец!» – Сойти рвётся на звук, но только сильнее вязнет.
Кто-то трясёт его за плечо. Сойти рывком вскакивает, ещё ничего не понимая со сна.
– Сынок, – тихо зовёт мать. – Сынок, отец приехал.
Не разобрать, чего в её голосе больше: радости или тревоги.
Кто-то возится с пологом чума, и мать спешно подкармливает огонь. Пламя с треском выбрасывает искры. Предупреждает. Сойти видит, как по лицу матери пробегает тень.
В чум вваливается Хасавако, на сына даже не глядит. Мать ставит перед ним стол с завтраком, заваривает крепкий чай. Всем своим нутром Сойти чувствует: отец в дурном настроении. Он смирно ждёт, когда Хасавако заговорит с ним, но отец медленно жуёт кусок за куском, не предлагая сыну присоединиться к нему ни словом, ни жестом. Время мучительно тянется. Мать забилась на своё женское место, у входа в чум, заняла руки штопкой, но, как только тарелка Хасавако пустеет, она уже тут как тут, наливает чаю.
– С дочерью улажено, – роняет Хасавако. – Пойди, скажи, чтоб готовилась.
Мать быстро выскальзывает из чума. Вслед ей смотрит только родильная кукла-помощница, что сидит на почётном месте, одетая в три ягушки, по числу выживших детей. Значит, скоро и у Маймы такая будет.
Хасавако делает шумный глоток, крякает, выплёскивает остатки чая. Достаёт из-под малицы уже початую бутылку, вновь наполняет пиалу.
– Плох оленевод, не знающий, что в стаде его делается, – говорит Хасавако и наконец-то смотрит на сына.
Язык у отца почти не заплетается, но вот мутные глаза так и бегают, выдают с головой. Липкий ужас опутывает Сойти. Он будто снова маленький мальчик, а отец – огромный, сильный, совершенно дикий. Непредсказуемый. Это как сидеть в одном чуме с волком или даже медведем.
– Ты считал моих оленей? – рычит Хасавако.
– Нет…
– Громче!
– Не считал! – голос Сойти срывается.
Всю неделю ему удавалось сохранять стадо в целости. Каждое утро в стойбище возвращались ровно те же олени, что уходили накануне. Конечно, Сойти их не считал. Бабушка всегда наставляла: «Сочтёшь – и от волка спасу не будет. Настоящий оленевод всех в глаза знает». Но отец гнёт своё:
– То-то и оно, что не считал. Так вот пойди, пойди! Проверь! Мой белый по тундре шарахается, а ты тут дрыхнешь! Сторож!..
Сойти перебрал в памяти стадо. Вот с чёрным пятном на лбу, вот с рыжиной в шерсти. Самый крупный, самый старый… У того рог обломан, этот с шишкой… Всех белых важенок вспомнил, всех телят.
– Да на месте вроде… Я ж проверял.
Пиала, брошенная в Сойти, едва расходится с его головой, но брызги попадают на лицо и одежду.
– Сам! Своими видел! – орёт отец. Глаза его вот-вот вылезут из орбит. – Мой он, мой! Только у меня такие!
По чуму разливается запах алкоголя. Сойти терпеть его не может.
– Встал и пошёл искать! Моего оленя! Быстро, я сказал!
Сойти кое-как одевается и вываливается из чума под ругань Хасавако. Ксения занята у нарт, но, завидев Сойти, бросается к нему.
– Бил? Бил?!
– Я в порядке, мам, – Сойти отстраняет её руки. – Потерял одного, пойду искать.
– Ксеня! – ревёт из чума. – Где ты шляешься, падаль…
– Не надо, мам, не ходи, – просит Сойти, но мать, как всегда, идёт: «Иначе будет хуже».
Быстрым шагом Сойти идёт, куда глаза глядят, бессильно стискивая в руках аркан и хорей – длинное копьё погонщика. Не сразу он замечает маленького Ноляко, что бежит ему навстречу.
– Ну как, выспался? – Ноляко заглядывает брату в лицо. – Я старался тихонько играть. А бабушка меня дымом обдымила, представляешь? От злых духов! Это потому, что я беду накликал… А видел, папа приехал? Здорово же?
– Очень.
– Теперь он тоже будет сторожить оленей, и ты отдохнёшь. Здорово же?
– Ага.
– А куда ты идёшь?
– Искать оленя.
– Потерялся? Давай, я помогу?
– Нет, Головастик. Не ходи за мной.
– Ну, Сойти! Я хочу с тобой!
Ноляко повисает на локте у брата, но Сойти с такой силой отдёргивает руку, что младший падает, не удержавшись на своих ножках.
– Вставай, чего ты, – Сойти поднимает брата. Оглядывается на чум, из которого доносятся пьяные крики и как будто бы придушенный женский плач. – Ладно, пошли. Поиграем в оленей, я ж обещал.
– Ура! – маленький Ноляко подпрыгивает так высоко, как только может. – Давай, как олени, побежим? Будем бежать, бежать – и к самому краю земли убежим. Здорово же?
– Здорово, – соглашается Сойти.
***
Сойти поднимается с колен, опираясь на хорей. Оглядывается, щурясь на солнце. Сегодня хороший тёплый день, только на горизонте собираются облачные горы. Объеденный ягель под его ногами говорит о том, что здесь и впрямь проходил одинокий олень. Верный Изок, увязавшийся за братьями, взял его след. В нетерпении он поскуливает и заглядывает Сойти в глаза: «Ну, ты идёшь?»
Маленький Ноляко треплет Изока за мохнатые уши, и на шерсти остаются красные следы от ягодного сока. У Ноляко уже все карманы набиты княженикой, для Маймы.
Летняя тундра цветёт, торопится жить. Мхи переползают с камня на камень, цветы поворачиваются за солнцем, травы стелются зелёным ковром. В тундре так: когда цветёт она, небо светлеет; когда светла от снега тундра – расцветает северным сиянием небо. Цвета кочуют между небом и землёй. Кочует солнце из мира живых в мир мёртвых. Вслед за ним кочуют на оленях и люди. Без оленя нет жизни человеку в тундре.
– Хороший мальчик, – Сойти тоже треплет Изока по ушам. – Давай, ищи.
Изок – большой охотничий пёс, но прыгучий, словно кузнечик. Потому так и назвали: Изок. Выслеживая оленя, Изок то и дело возвращается к хозяевам, игриво скачет вокруг них, будто подгоняя, вновь убегает далеко вперёд.
– Слышишь? – Сойти вдруг замирает, напряжённый. Ноляко тоже прислушивается. Вдалеке радостно заливается Изок: нашёл. Они идут на звук и, наконец, видят оленя.
– Как тебя, окаянного, занесло?..
Порядочно проплутав, братья оказываются не так уж далеко от стойбища, только Сойти старается не водить сюда стадо. Здесь из-за промышленных разработок царствует обманчивая елань: с виду добрая земля, а ступи – одна топь зыбучая. В ней всё ещё борется олень, серый от болотной грязи. Ногами он ищет опору, но лишь крепче увязает в елани. Уже ушёл по самую грудь, и кровожадный гнус облепил его, не оставив живого места. Но олень ещё плачет, хрипло и бессильно.
– Надо ему помочь! – торопится Ноляко.
Рука Сойти останавливает его.
– Не лезь. Утонешь.
– А кто полезет? Ты, что ли?
– Надо позвать на помощь.
– Папу?
Сойти думает о том, в каком состоянии сейчас Хасавако, и стискивает зубы до боли. На кого ему надеяться? На холёную сестру? На слабую мать? Может быть, на старуху?
– Жалко, что я маленький, – шмыгает носом Ноляко.
– Да, – говорит Сойти. – Жалко, что ты маленький… – В памяти вдруг всплывает картинка из школьного учебника: смешной человечек длинной палкой поддевает валун. – Все мы маленькие, зато кое-чего умеем.
Сойти обвязывается арканом, конец верёвки протягивает брату:
– Не потеряй. Я подойду, обвяжу рога и буду подталкивать. А вы с Изоком тяните, хорошо? Втроём справимся. Смотри только, в топь не влезь!
– Понял, – Ноляко крепко стискивает верёвку.
Сойти грозит псу:
– Отвечаешь за Головастика.
Пёс виляет хвостом-калачиком.
Осторожно Сойти заходит в болото. Под его ногами чавкает и шевелится жижа. Каждый шаг опаснее предыдущего. Сойти медленно идёт к оленю с глухим упорством. Вот он уже по колено в топи. Но и олень совсем близко: лишь руку протяни – ухватишься за рога.
– Почти достал! – от волнения Ноляко приплясывает на одном месте, Изок вертится рядом.
– Стой смирно, – напоминает старший брат. Некоторое время он собирается с духом, потом резко выбрасывает себя вперёд – и руки обнимают тёплую шею животного. Он достал.
– Ура! – вопит Ноляко.
Олень шумно всхрапывает и мотает головой, пытаясь высвободиться. Сойти повисает на нём, ноги никак не находят опоры, увязают всё глубже и глубже. Жирные и сонные комары облепили оленю всю морду. Сойти разгоняет их привычным жестом, вытаскивает насекомых из длинных ресниц, из ноздрей. Олень находит ладонь человека и начинает жадно слизывать соль.
Сойти шепчет в белое ухо:
– Тише ты, глупый… Тише.
Как странно: ухо чистое, без клейма Хасавако.
– Он не наш.
– Чего?
– Говорю: олень дикий!
Сойти пробует дно хореем, кое-как находит опору. Теперь нужно снять с себя аркан и закинуть на рога. Но дурной олень, почуяв спасение, вдруг отчаянно бьётся, месит грязь – и ноги старшего вязнут под оленьими копытами. Верёвка, обвязанная вокруг Сойти, скользит в руках у Ноляко.
– Мне тянуть? – спрашивает Ноляко.
В ответ Сойти страшно кричит. От этого крика олень взбрыкивает ещё больше – во все стороны летят брызги: серые, бурые, ярко-красные. Оттолкнувшись от Сойти, рогач, наконец, выбирается из елани и бежит прочь. Он весь в грязи, а копыта такие красные, что у Ноляко рябит в глазах.
Верёвка всё скользит, жжёт руки. Маленький Ноляко вдруг сильно икает. Ещё и ещё – потом хватается крепче за верёвку и, не переставая икать, тянет на себя, отступает на шаг, другой, потом закидывает верёвку на плечо – и тащит, тащит. Изок тоже помогает, закусив самый конец, мощными лапами взрывая землю. Для него это как игра: хвост-калачик весело ходит из стороны в сторону.
Медленно, с огромным трудом Сойти выползает из елани на твёрдую землю и больше не двигается.
С ногами у брата что-то не так. Ноляко только разочек глянул и больше старается не смотреть. Кажется: если посмотрит, не сдвинется с места. Поэтому он бросает верёвку и бежит – так быстро, как только могут бежать его короткие, неправильные ножки Головастика. Ноляко летит быстрее оленя, попутный ветер гнёт спину. А вслед ему воет тоскливо Изок.
***
Старуха родилась давным-давно, одной лютой голодной зимой. Имя ей дала пурга, что бушевала тогда в тёмной тундре. Хадне. Давно уж никто не зовёт её по имени. Только сама себе и скажет порой шёпотом: «Поднимайся, Хадне. Ещё немного потерпеть, Хадне». Поднимается и терпит ещё немного. Ставит чум, сшитый собственными руками, уже пятый за долгую жизнь. Латает его, как может, щуря слепые глаза. Готовит еду. Поддерживает очаг. С каждым годом всё труднее, но жаловаться старуха не привыкла и к невестке беловолосой никогда не пойдёт с протянутой рукой: дескать, одолжи, невестушка, угольков – свой очаг упустила. Старуха даже спит вполглаза, караулит свой огонь. По-стариковски бессонными ночами она долго шепчется с пламенем, и пламя отвечает ей, когда ровным гулом, а когда и возмущённым треском.