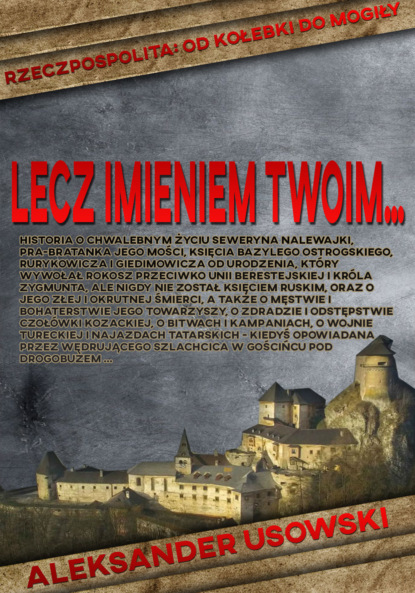Полная версия:
Александр Валерьевич Усовский Эра негодяев
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Александр Усовский
Эра негодяев
Моей жене Лене – без которой не было бы написано ни строчки….
Студентам и преподавателям Белорусского государственного университета и Университета Шлёнского в Катовицах, вместе с которыми мне выпала честь прикоснуться к Истории – посвящается
Пролог
Сегодня, перед лицом смерти – я отвергаю отчаяние.
Отчаянье – сестра трусости; отчаянье не способно стать причиной самоотверженности, оно не рождает ничего, кроме сумеречного угасания духа, и не ведет ни к чему, что могло бы послужить созиданию.
Мать наша, христианская церковь, всегда относила отчаянье к семи смертным грехам – ибо отчаявшийся человек утрачивает надежду, единственное, что в тяжкие времена поддерживает в каждом из нас искру жизни – и начинает нисхождение во тьму неверия; и лишенный благодати Божьей, отчаявшийся погибает душой – хотя телом, быть может, он еще и жив.
Прах, пепел и тлен – удел отчаявшихся; свет истины и ветер свободы – Господний дар для сохранивших надежду в самую полночь безверия!
Герцог Норфолк,казнённый 2 июня 1572 года в королевской тюрьме Тауэр по обвинению в организации «Заговора Ридольфи»То были дни, когда я познал, что
значит – страдать; что значит – сты-
диться; что значит – отчаяться.
Пьер АбелярPraestat cum dignitate cadere quam cum ignominia vivere!
Самый лучший солдат – тот, кто на войне умудрился прожить дольше других и ни разу не струсить; смерть в бою входит в служебные обязанности солдата – и каждый солдат, беря в руки оружие, заранее соглашается с этим пунктом его контракта. Но никто из них не думает, что погибнет именно он – на любой, самой страшной и жестокой войне, у любого из участников самой кровопролитной битвы есть шанс остаться в живых; наверное, именно поэтому ни одна из войн в истории человечества не заканчивалась по причине отсутствия на полях сражений нужного количества живой силы.
Мы были солдатами; и каждую минуту мы были готовы, по велению наших вождей, выступить в наш единственный, в наш Последний Поход – в котором самым главным для каждого из нас было одно: не струсить. Мы не жаждали военных подвигов и славы, мы не грезили об орденах и медалях – мы просто были готовы выполнить свой долг перед своей страной. Никто из нас не бахвалился бесстрашием, никто из нас не мечтал «с честью погибнуть в бою» – мы просто были готовы отдать своей Родине свою жизнь; экая малость!
Мы были солдатами – наверное, далеко не самыми худшими в этом лучшем из миров; едва научившись ходить, наши мальчишки начинали играть «в войну», и игрушечное оружие сопровождало наше взросление от колыбели вплоть до того мгновения, когда в наших руках оказывалось оружие боевое. Мы становились солдатами, еще не став по-настоящему взрослыми мужчинами – Родина позволяла нам убивать в бою врагов, в то же время не разрешая нам приложится губами к бокалу легкого вина; уж такие у нас были нравы и обычаи!
Мы были солдатами – ибо таково было положение вещей в нашем мире; тот, кто не был солдатом – не был по-настоящему человеком, и окружающие недоуменно-подозрительно смотрели вслед тому, кто был лишен права вступить на стезю воина, кому было отказано в возможности взять в руки оружие.
Вся наша страна готовилась к решающей, Последней Битве с врагом – и во имя грядущей победы в этой битве наши вожди считали возможным пренебречь жизненными условиями своего народа; последние были отвратительно жалки и ничтожны. Мы отказывали себе в излишних удовольствиях и ненужном, с точки зрения наших вождей, комфорте – зато мы с постоянством, пугающим даже наших друзей и союзников, копили горы оружия. Оно казалось нам нужнее, чем бытовые удобства и жизненные удовольствия – потому что в час Решающей Битвы всего один лишний танк, одно лишнее орудие, один лишний бомбардировщик – а может быть, даже один лишний пулемёт! – как считали наши маршалы и генералы, сможет решить ее судьбу, на ближайшее столетие определив нового Хозяина Мира. И мы строили танки, пушки и самолёты, отказывая себе в лишнем куске хлеба – ибо каждый новый танк повышал – как мы тогда думали – наши шансы в грядущем сражении за судьбу Ойкумены. Мы верили в своё оружие – но опасность поражения таилась совсем в другом месте.
Мы были солдатами – но Время Солдат заканчивалось; мы не знали этого, и честно и прямодушно готовились сразиться с нашим врагом в битве, которая, рано или поздно, но все же произойдет – так говорили нам ответственные лица с высоких трибун, с газетных полос, с экранов телевизоров. И мы готовились к этой битве – не подозревая, что, невидимая обычному взору, эта битва уже шла – и мы в ней не побеждали…
Мы так и не двинулись в наш Последний Поход; полковые трубачи не сыграли на рассвете нам свою главную «зорю», и наши армии не были подняты по боевой тревоге. Наше оружие так и осталось в оружейных комнатах, наши танки и бронетранспортеры, не сделав ни одного выстрела, были брошены ржаветь в парках и ангарах, наши корабли так и не отошли от причальных стенок, не сменили учебные снаряды и ракеты на боевые; той Войны, ради которой каждый мужчина моей страны учился владеть оружием – не произошло. И совсем не потому, что у наших вождей в недостатке было под рукой солдат и пушек, отнюдь; главная война нашей жизни не случилась по иным причинам, гораздо более значительным, чем нехватка амуниции или устарелость техники – слава Богу, эти пустяки никогда в истории нашего государства не были препятствием для ведения войн. Бывали времена, когда мы воевали и вовсе без армии, одним ополчением, одетым в лапти и армяки, без техники, без патронов и снарядов, без регулярного снабжения и устойчивой линии фронта – и ничего, справлялись.
Главная война нашей жизни не случилась из-за измены наших вождей; измены не идее, Господь с ней – та идея была мертва изначально, от нее за версту несло нафталином и запахом тления; измены нам, своим солдатам. Наши вожди просто приняли сторону врага – ибо враг нашел убедительнейшие доводы и неотразимейшие аргументы насущной необходимости их предательства; враг нашел путь к сердцам наших вождей – вернее, к тому, что им их заменяло; и наши вожди изменили нам, своему народу.
Мы потерпели самое сокрушительное поражение в истории нашей страны – без единого выстрела. Мы все остались живы – но мы перестали быть солдатами. И в тот день, когда наши вожди склонились в угодливом поклоне перед доселе ежечасно и ежеминутно проклинаемым врагом –
Время Солдат закончилось.Наступила Эра негодяев…Глава первая
* * *«Милый, любимый Сашенька!
Я долгое время не решалась написать тебе, все чего-то боялась. Это мое первое письмо – с его помощью я постараюсь сказать то, что тогда, на перроне, сказать не смогла.
Я не могу жить без тебя – как без воздуха, без неба, без солнца; я понимала это с первого же дня нашего знакомства – но и требовать от тебя тех шагов, которые, по моему мнению, ты должен был бы сделать – я не хотела. Может быть, именно поэтому тогда, на вокзале, мы неловко молчали, стараясь не смотреть в глаза друг другу – потому что я не смогла пересилить себя и сказать тебе те три главных слова, которые ты, наверное, ждал от меня. Теперь я могу их сказать – мне это легче сделать, не видя твоих глаз.
Я люблю тебя – и любила всегда, с самого нашего первого знакомства, даже раньше – с нашей первой встречи, когда ты молча прошёл мимо меня, спускаясь вниз со своими друзьями; а может быть, я любила тебя всегда… Знаешь, теперь я понимаю, что, пока между нами были отношения – для меня не существовало окружающего мира, мне никто не был интересен. Я очень долго, всю свою жизнь, искала тебя, искала эту любовь; когда же нашла – то очень быстро потеряла. Только сейчас, в разлуке с тобой, я смогла понять, что в этой жизни могу любить лишь один раз и лишь одного тебя. Я хочу быть только с тобой, и эти два месяца, что я прожила без тебя, меня убедили, что я не ошибаюсь. Несмотря ни на что, я храню свою любовь к тебе, тебя желаю, о тебе мечтаю, твоё имя повторяю ежечасно и ежеминутно.
Увы, обстоятельства сложились так, что нам пришлось расстаться. В тот вечер, когда мы были вместе, как оказалось – в последний раз – я не решилась сказать тебе, что не могу жить без тебя. Наверное, я боялась этих слов – а может быть, ты боялся их не меньше. Но, прожив в разлуке без тебя, твоей заботы и ласки, понимания – я ощутила пустоту в душе, поняла, как мне тебя не хватает, как мне трудно без тебя. Мир стал серым, злым, убогим. Ты единственный человек, о ком я думаю и с кем хочу быть. Даже если ты не получишь это мое письмо – я все равно буду знать, что ты со мной.
Я люблю тебя!
Твоя Герди.Шпремберг, 12 августа 1992 года»Очень трогательно. Просто умилительно… Что ей стоило сказать эти слова ему в лицо? Тогда она молча отводила глаза, прятала их за дымчатыми стёклами солнцезащитных очков, ежеминутно без нужды оборачивалась к своим однокурсникам – которые из деликатности отошли от них на несколько шагов. В те последние десять минут, когда они еще были вместе – рухнул его мир; впрочем, в общем грохоте крушения всего остального большого мира их маленькая, локальная, почти незаметная для остальных катастрофа – осталась почти незаметной…
Он вспомнил тот июньский вечер, когда студенты из бывшей ГДР, закончив учебу, уезжали в свою новую Германию, за время их шестилетнего отсутствия вдруг ставшую снова единой – имея на руках восточногерманские паспорта и дипломы советского образца. И то, и другое, как тогда им казалось, было безнадежно бесполезно в новой, неведомой им, жизни. Они нервничали, стараясь скрыть свой страх перед неведомым будущим за излишне громкими разговорами, преувеличенно жизнерадостным смехом, чуть истеричной манерой общения со своими советскими (советскими? Те, кто оставался на перроне, так же, как и их немецкие товарищи, весьма и весьма смутно в те дни могли самоидентифицировать себя) сокурсниками.
И рядом с ним тогда стояла его Герда…
В тот день в небольшой группке выпускников на перроне минского вокзала они последний раз были вместе. В последний раз… Они стояли у вагона, не решаясь произнести главные слова – он и его Герда, не по-немецки смешливая блондинка с серо-стальными, так резко контрастировавшими с ее улыбкой, глазами. Она молчала – и он тоже не знал, что сказать ей на прощание. Вернее, знал – но мучительно не готов был это произнести. «Останься»? Предложить любимой девушке – хрупкому, нежному созданию – остаться там, где, по его тогдашнему разумению, и здоровым мужчинам жить было крайне трудно? Предложить ей разделить кров – которого у него не было, и кусок хлеба – который ещё неизвестно, как нужно будет заработать? Остаться в стране, только что нарисованной на карте – с таким туманным будущим, что самые ясновидящие астрологи терялись в попытках предсказать ей грядущее? Остаться рядом с ним в том бардаке, что царил на просторах родного Отечества? Без настоящего образования (ну кто даже сейчас всерьез воспримет «профессию» философа или историка, не говоря о переломном девяносто втором?), без средств к существованию, без будущего? Кому в этом новом мире нужны были их дипломы о философском образовании? Разве что мышам – и то, если этим грызунам твердые корочки образовательных документов придутся по вкусу.
Июнь девяносто второго… Что и говорить, смутное время, время крушения старого мира и зарождения мира нового; какая может быть любовь в реконструкционный период? – как писали Ильф и Петров, кажется. А оказывается, была… Да что врать самому себе? Он и тогда знал об этом так же хорошо, как и сейчас – и незачем Герде было терзаться, мучительно подбирая ничего не значащие слова, чтобы вдруг, случайно, в запале – не произнести всего лишь три нужных…
Всё равно – во всём, что тогда случилось, виноват он и только он. Что ему тогда стоило сказать: «Останься»? Тогда и ей ничего бы не стоило произнести те три простых слова, которым она закончила свое письмо, пришедшее через три месяца после их последнего грустного свидания на перроне – когда уже ничего нельзя было изменить?
Он сложил в очередной раз прочитанное письмо в конверт, лениво потянулся к своему пакету, достал оттуда пластиковую коробочку и аккуратно сложил туда плод эпистолярных упражнений сероокой Герды Кригер, в данный момент – как он думал – добропорядочной немецкой фрау. Прошло шесть лет… а кажется, что прошла целая жизнь.
Он знал, что лукавит – даже перед самим собой. На самом деле, ему было невыносимо стыдно за те десять минут на минском вокзале – стыдно даже сейчас, спустя шесть лет. И все эти годы он продолжал мучительно искать оправдания – даже сегодня, когда в сотый – да какой сотый, в тысячный! – раз достал тоненькую пачку ее писем и вновь перечел первое, самое тяжелое, самое глубоко ранящее сердце.
Герди… Милая девочка из маленького городка у самой польской границы, так непохожая на хрестоматийную немку из учебника! Где ты сейчас, мое маленькое сероглазое счастье?
Он перевернулся на живот, подставив под скудные сентябрьские лучи уже довольно загоревшую спину, огляделся.
Кроме него, на этом небольшом пляжике у железнодорожного моста через Березину не было почти никого – две парочки, три мамаши с детишками, собачник с дружелюбной и донельзя любопытной колли, с которой он уже успел за это время подружиться, и для которой каждый раз брал из дому кусочек колбасы или сосиску; хозяин не возражал, а ему было приятно каждое утро видеть радостное помахивание хвостом и дружелюбную улыбку на уморительной рыжей морде – кстати, а кто сказал, что собаки не умеют улыбаться? С мамашами было сложней – хотя некоторые из них явно хотели бы «подружиться», но такая дружба в его планы не входила; весьма вероятно, что у этих излишне компанейских дам могут быть (впрочем, скорее всего, есть) мужья, а нарываться на неприятности ему совсем не хотелось; в конце концов, есть же Люся из кафе «Золотой петушок»…
Прохладный ветерок колыхал ветви рахитично-худосочных берёзок, каким-то чудом, вопреки замыслу матери-природы и здравому смыслу, проросших на этом безнадежно бесплодном песке; задумчиво и таинственно шелестели ветви ив, хозяйственно и деловито умостившихся у самого уреза воды. Было тихо – как бывает тихо в сентябре, когда летнее буйство красок постепенно отцветает, когда птицы, закончив выкармливание птенцов, ставят их, ещё совсем несмышлёных, на крыло, когда пышно отцветшие в мае яблони радуют глаз сочными боками своих плодов. Лето ушло, но настоящая осень еще не наступила – было то время, которое прекрасно характеризуется словом «межсезонье». Летний сезон закончился, по вечерам, хотя сентябрь еще только начинался, было уже довольно прохладно – поэтому не было ничего удивительного в том, что в этот день на пляже у моста было так мало народу. Да и вообще – тут он усмехнулся – нормальные люди в разгар рабочего дня обычно работают, а не валяются кверху пузом на пляже.
Хм… Нормальные.… Да, его сегодня, пожалуй, трудно отнести к нормальным – тридцать лет, а ни семьи, ни детей, ни жилья, ни работы; не человек, а ветер в поле. А главное – в будущем какой-то большой, черный, мрачный тупик; выхода нет. Или он просто плохо ищет? Когда-то он потерял ту дорогу, по которой ему нужно было идти – и с тех пор всё продолжает и продолжает бродить по захламлённым тёмным подворотням, в безнадёжных попытках найти выход из этого мрачного лабиринта. Как там, у Стругацких? «Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор всё тянутся передо мною кривые глухие окольные тропы»; как-то так, кажется. «За миллиард лет до конца света», кажись, называлась эта вещь… Когда он её читал – не думал, что эта книга о его хромой судьбе, а оказалось – именно о нём. Тогда, на перроне, он испугался встать на данный судьбой путь – и теперь эта самая судьба жестоко мстит ему, предавшему свою мечту, отвернувшемуся от женщины, которая – единственная! – тогда в него верила и на которого надеялась. Поделом вору и мука, как гласит мудрая русская пословица…
Милая, милая Герди! Как же мне не хватает сегодня нежного взгляда твоих арийских, серо-стальных обычно, и небесно-голубых – очень редко, в те моменты, которые я помню наперечет – глаз! Как не хватает твоей уверенности в том, что он, ее мужчина, способен на все, что любое невозможное дело ему по плечу!
Тогда, в девяносто втором, многим его друзьям казалось – весь мир может оказаться у их ног; стоит только захотеть! Тогда он тоже, как и его товарищи – кинулся в занятие бизнесом, очень плохо себе представляя, что это такое на самом деле. Боже, какой херней они тогда занимались! Мальчишки, возомнившие себя матерыми коммерсантами.… Сегодня это смешно; тогда все это было всерьез – и даже больше, чем всерьез. Тогда все окружавшие его однокурсники были свято убеждены – и это убеждение он истово разделял – что нужно лишь успеть ухватить за хвост птицу удачи – и вот они, ожившие картинки из глянцевых журналов: шикарные машины, роскошные дома, ослепительные женщины, море, песчаные пляжи неестественно желтого цвета, обеды на террасах дорогих ресторанов, свежие лобстеры, мартини, сигары под коньяк…
Господи, как же дешево их купили!
За блестящие миражи грядущего буржуйского рая они, смеясь, отдали всё, что у них тогда было за душой – будущее своей Родины – и весело смотрели, как исчезает в океане небытия их великая страна, как дробиться на кусочки, пропадает в тумане прошлого то, за что насмерть сражалось сорок поколений их предков. Идиоты, восторженные, слепые идиоты! Аплодирующие своей собственной гибели, танцующие на едва засыпанной могиле своей страны…
Какое-то время – не очень продолжительное, на самом деле – им удалось побыть «бизнесменами». Они заключали какие-то контракты, с шиком прожигали шальные, дуриком заработанные деньги – в святой уверенности, что так будет всегда, что уж теперь жизнь повернулась к ним лицом, что удачу им окончательно и бесповоротно удалось ухватить за загривок; и теперь наступило их время!
Они не знали, что им очень дорого и очень скоро придётся заплатить за этот пир во время чумы. Многим – жизнью и здоровьем, кому-то – семейным благополучием, а большинству – тщательным выкорчёвыванием в своей душе всего человечного; ибо отныне «человек человеку – волк»! Всем им, пусть помимо их воли, но всё же допустившим крах своей Отчизны – пришлось досыта хлебнуть горького блюда под названием «расплата».
Потому что потом, после маленького кусочка сладкой жизни, вырванного у судьбы почти насильно – наступило тяжелое похмелье; они оглянулись и увидели страну, уходящую в безнадегу нищеты, постоянно сужающееся пространство для свободной коммерции, на котором уже не было места романтикам и мечтателям; очень быстро появились бандиты, вдруг возникли долги, на которые приходилось платить бешеные проценты; хищные зубы недавних коллег вдруг безжалостно начали рвать долю своих товарищей… Грязь и мерзость, подлость и предательство – всего этого они хлебнули с избытком, вдвое, втрое больше, чем красивой жизни, едва промелькнувшей на зыбком неверном горизонте.
Красивая и богатая жизнь очень быстро закончилась – вдруг сменившись глухой безнадежностью, мёртвым тупиком. Они оглянулись – и поняли, что наступающий мрак уже плотно взял их глотку.
Очень быстро чувство эйфории сменилось ощущением обстановки вялотекущего краха. Всепожирающего, спланированного издалека, давно и надежно. Краха всего, что еще недавно казалось незыблемыми ценностями – и вдруг однажды пришедшее осознание предопределенности всего этого кошмара! Кем-то и когда-то задуманного, виртуозно проведенного, идеального по исполнению плана медленной гибели его страны и его народа. И ежедневно и ежечасно претворяющегося в жизнь – с планомерностью машины, бесчувственной, хорошо отлаженной и смазанной машины.
А ведь она ему об этом говорила… Милая, славная Герди! Это было весной девяносто второго, ранней весной, еще лежал снег; они гуляли тогда в парке Горького, казалось, что все, как и прежде – но он понимал, что, вместе с ноздреватым серым снегом на парковых аллеях, в прошлое уходило что-то важное в их отношениях. Что она тогда ему говорила? «Вы скоро станете очень давним, очень туманным прошлым. Быть может, уже наши дети будут читать о вашей стране в книжках и недоверчиво качать головами – не думай, что вам позволят вернуть хоть что-то! Вы легко и весело разрушили свою большую страну – теперь им будет совсем просто превратить ее осколки в большое поле для охоты. Не думай, Алекс, что мне не жаль твоей страны – мне очень жаль всех вас; но вы сами безрассудно идете в капкан, который для вас приготовлен! Пойми, у вас нет будущего – вы нужны им только в качестве рабов – причем, в отличие от рабов римских, вас даже не будут обязаны кормить! В этом новом мире, о котором ты так восторженно рассуждаешь – нет места человеческому; это мир мертвецов! Каждый за себя – это означает, что никто за другого. Я не понимаю, почему ты смеешься!»
Они долго, до озноба, до головокружения целовались – ведь была весна… Пся крев, а ведь нежная, трепетная Герди была тысячу раз права! Она видела его слепоту, его бездумную восторженность – теперь он понимает, как ей это было тяжело. Ведь она, в отличие от него, знала…
Он не сказал ей «останься» в тот июньский вечер, на перроне минского вокзала – во многом именно из-за почти невидной, микроскопической трещинки, что пробежала в их отношениях после того разговора; а ведь она оказалась права! Он, как упертый баран, пытался доказывать ей свою правоту – он, до макушки погруженный тогда в дурман «новой жизни», не воспринимавший ни единого слова, которое бы смогло его отрезвить. Он рисовал ей сияющие перспективы своей коммерческой деятельности, величественные замки благополучия и богатства, расписывал грядущую шикарную и беззаботную жизнь – а она смотрела на него, как опытный, матерый, видавший виды и тёртый жизнью сержант смотрит на обритого наголо зеленого новобранца в необмятом обмундировании, заявившего свои неоспоримые права на маршальский жезл, в доказательство серьезности своих намерений предъявившего пустой ранец… Господи, каким дураком он тогда был!
Герди, милая Герди! Где ты сейчас?
Правда, в Париже – как там, «увидеть Париж и умереть», идея фикс всей российской образованщины? – он все же побывал – уже на закате своей быстротечной коммерческой карьеры; причем по-богатому, вместе с женой, которая, в отличие от шибко умной Герды Кригер, всецело разделяла его тогдашние жизненные воззрения и приоритеты. Никчемная, пустая «интеллектуалка», возомнившая себя невесть кем… Он посмел променять Герди – милую, нежную, всепонимающую Герди – на этот склад банальностей! Опять же, поделом вору и мука – когда жена предала его, легко и небрежно, почти походя – он этому нисколько не удивился. Женщины любят победителей… А он не смог стать победителем в тех крысиных бегах, что назывались «коммерцией по-русски» – не хватило, наверное, какого-то специального хватательного гена в его наборе ДНК. И стал аутсайдером – неудачником, если по-простому. Лузером, как сейчас стало модно говорить.
Горько всё это сейчас вспоминать, горько и обидно… Но вспомнить надо – хотя бы для того, чтобы разобраться, кто он сейчас на этом свете.
Что он делает в этом забытом Богом городке? Живет. Или доживает? В общем, существует – как растение; нет, хуже, чем растение – у того хоть есть цель существования, любое растение размножается; ему же не удалось даже это.… Сначала жена хотела «пожить для себя», потом, когда проблемы начали расти, как снежный ком – о каком ребенке могла уже идти речь? Да и супруга, как теперь очевидно, еще в самом начале трудностей быстро и решительно поставила на нем крест – бедная, бедная жертва того же самого мифа, в который в начале девяностых верил и он сам! Ведь она же искренне была убеждена в том, что достойна самого лучшего варианта красивой жизни – а как же? Ведь во всех глянцевых журналах об этом написано черным по белому (или оранжевым по зеленому, это как получиться). А раз так – долой мужа-неудачника, да здравствует жизнь свободной и богатой женщины! «Свободной», как оказалось – сколько угодно, а вот насчет «богатой» – с этим случилась заминочка.… В общем, не получилось богатства. Несмотря на предательство – впрочем, читала же девушка в юности Новый Завет, знала, стало быть, об истории с тридцатью динариями. Могла бы и вывод сделать.… Не сделала. Стало быть, винить должна исключительно сама себя.
Герди, милая, солнечная Герди! Чем ты сейчас занята, кто чутко сторожит по ночам твой сон? Дай Бог тебе удачи хоть в этом! Какого же дурака он свалял тогда, в девяносто втором, на перроне минского вокзала…
Вообще – каким болваном он тогда был! «Перед нами открылся весь мир, мы создадим торговую империю, мы разбогатеем…» Это сейчас глупо и смешно – тогда это казалось незыблемыми истинами! «Великая торговая империя»… Боже, каким смешным кретином он был тогда в ее глазах! Напыщенный фанфарон, напоминающий павлина, важно вещающий о какой-то несусветной ерунде, о своих планах покорения мира – удивляюсь, как она тогда просто не плюнула ему под ноги?