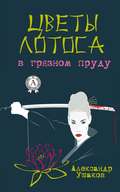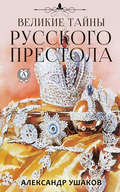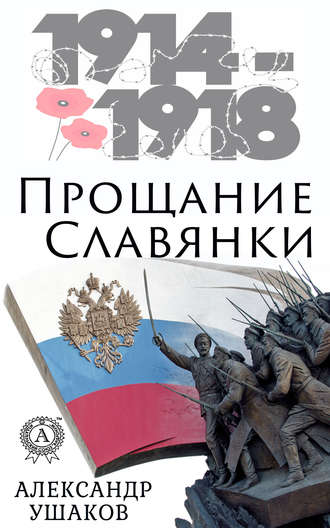
Александр Ушаков
Прощание славянки
Вполне возможно, что так оно и было, и полковнику Апису и его высоким покровителям было, что скрывать.
«Сербия, – пишет А.Буровский в книге «Отречемся от старого мира», – в начале XX века была основанным террористом Европы.
Спецслужбы Сербии возникали на основе бывших заговорщицких организаций: были у них и опыт, и необходимые навыки.
Они пользовались полнейшей поддержкой и царя Петра из династии Обреновичей, и всего правительства.
По всем Балканам создавались культурные, научные, спортивные центры для «крышевания» экстремистских организаций вроде «Черной руки», «Белой руки», «Молодой Боснии», «Старой Боснии» и сотни других.
Еще в 1910 году студент Богдан Жераич выстрелил в австрийского губернатора Боснии Иосипа Верешанина.
При этом он ухитрился не попасть в упитанного генерала с трех метров и покончил с собой.
На болгарского царя Фердинанда покушались полдюжины раз, все неудачно.
А цель была понятна: дестабилизация обстановки. Если начнется война, за Сербию тут же вступится Франция, которая вложила в ее экономику не ордин миллион франков. А уж русские «братушки», конечно, помогут не за страх, а за совесть!»
Надо заметить, что в России прекрасно понимали эти устремления, и далеко не случайно тот же министр иностранных дел России С.Д.Сазонов передал в начале очередной Балканской войны в Белград весьма красноречивую ноту.
«Категорически предупреждаем Сербию, – говорилось в ней, чтобы она отнюдь не рассчитывала увлечь нас за собой».
Куда уж яснее…
Говоря откровенно, организация покушения не эрцгерцога ни для кого не была тайной с самого начала, хотя сербские власти и попытались представить дело так, будто бы убийцы Фердинанда – частные лица, ни имевшие к их правительству никакого отношения.
Однако факты говорили о другом.
Ампулы с цианистым калием, револьверы из государственного арсенала, приывычка называть старших по группе по воинскому званию, – все это неопровержимо даказывало связь террористов с «Черной рукой».
Да и вели они себя, надо заметить, далеко не лучшим образом. И, если следоватьуголовному жаргону, раскололись сразу.
При этом на них не было оказано ни малейшего давления, хотя некоторые сербские газеты и кричали о пытках.
Но одно дело – признание обвиняемых, и совсем другое – неопровержимые доказательства их связи с «Черной рукой».
Более того, судебные процессы, проведенные самими сербскими властями над участниками покушения (Салоникский процесс 1917 года), а также принятие правительством Сербии большинства условий ультиматума, за исключением одного пункта, подтверждают причастность к террористическому акту легальных и полулегальных сербских организаций и терпимое, по меньшей мере, отношение к их деятельности официального Белграда.
Однако установить прямое участие сербских властей в подготовке и осуществлении теракта австро-венгерскому руководству не удалось, несмотря на все его усилия.
Специальный представитель Австро-Венгрии, посланный в Сербию собрать доказательства, бывший прокурор, советник Фридрих Вичер, писал в своей телеграмме в Вену: «Доказать и даже подозревать сербское правительство в том, что оно было осведомлено о покушении, либо участвовало в его осуществлении, подготовке и в предоставлении оружия, невозможно».
Однако далее со ссылкой на показания обвиняемых в телеграмме указывалось, что решение о покушении было принято в Белграде, в подготовке его участвовали государственные чиновники, а бомбы были получены из арсенала сербской армии.
Но австрийцу не удалось точно установить, было ли получено оружие непосредственно перед покушением.
Потому Вена и настаивала на проведении собственного расследования на территории Сербии.
Почему Белград не пошел на это?
Как было сказано выше, об этом мы можем с той или иной степенью вероятности только догадываться.
Нельзя не сказать и вот еще о чем.
Из сочинений советских историков мы знаем, что Сербия всегда была жертвой, а Австро-Венгрия палачом.
Вот только так ли все это было на самом деле?
Давайте посмотрим, какие взгляды на свое будущее имела эта самая «жертва», чье поведение во многом определялось уверенностью в русском прикрытии.
А будущее у Србии, по верованиям многих ее правителей, было только одно – стать Великой Сербией! Иными словами, объеденить в своем государстве земли всех южных славян. Под своим, естественно, началом.
Само собой понятно, советские историки обходили и эту вековую мечту сербов о Великой Сербии.
Идея создания Великой Сербии зародилась в сумраке оттоманского владычества, когда в 1683 году коалиция христианских государств во главе с Австрией (турки дошли до самой Вены) начала против Турции войну накануне великого переселения сербов под руководством Арсения III Чарноевича.
Граф Джордже Бранкович первым осмыслил идею Великой Сербии и изложил ее австрийскому императору.
Это возрожденное, освобожденное и объединенное сербское государство (имелось в виду Сербское царство) охватывало области на Балканском полуострове и в Паннонской низменности.
Идея австрийскому двору понравилась.
Да и как не понравиться, если созданная из освобожденных и объединенных сербских земель Великая Сербия доложна была стать своеобразным щитом и предотвратить более глубокое турецкое вторжение в Центральную Европу.
На радостях император Леопольд I даже издал прокламацию, по которой граф Бранкович должен был именоваться деспотом сербских областей Срема, Баната и Герцеговины.
Однако длилась эта самая радость не долго: только до тех пор, пока турки угрожали Австрии.
Когда же сербы помогли оттеснить турок на юг Балкан, то, опасаясь возрождения Сербского царства (Великой Сербии), и решив, что деспот Бранкович может представлять опасность будущим завоевательным планам, австрийский император арестовал его в 1688 году и целывх двадцать два года держал в тюрьме, где тот и умер.
Так пострадал и погиб первый идеолог Великой Сербии, а сама идея Великой Сербии окрасилась в цвета мученичества.
120 лет спустя идея создания Великой Сербии была представлена Петербургу.
Это была программа восстания Карагеоргия, являвшая собой вдохновляющий источник освободительного движения сербов. Но идея не получила поддержки.
Более того, против «великосербской опасности» в начале ХIХ века Петербург объединился с… Веной и Берлином.
«Еще в 1876 году, – отмечал в своей книге «Честные маклеры» бывший посол ФРГ в СФРЮ Ральф Хартман, – когда сербский князь Милан поддержал восстание христианского населения Боснии и Герцеговины против турецкого владычества и объявил Стамбулу войну, министр иностранных дел Российской империи князь Горчаков, германский канцлер Бисмарк и австро-венгерский премьер Андраши под давлением Габсбургов подписали так называемый Берлинский меморандум.
Согласно его положениям, стороны договаривались, что, в случае победы сербов, великие державы не потерпят возникновения большого славянского государства».
Почему Россия подписала меморандум, направленный против той самой Сербии, которой Николай II через тридцать с лишним лет пообещает любую помощь и таким образом развяжет ей руки?
Да только по той причине, что России была нужна не Великая Сербия, которая стала бы проводить собственную и независимую от Петербурга политику, а Сербия слабая, нуждающаяся в покровительстве могучей империи и являвшаяся постоянным источником напряжения почти в самом центре Австро-Венгрии.
Однако идеи, как и рукописи, не горят, и идея Великой Сербии продлжала будоражить умы. И не случайно премьер-министр Сербии Никола Пашич был идеологом Великой Сербии.
Но в то же время в Белграде прекрасно понимали: в одиночку победить империю и воссоединиться с боснийскими и другими сербами Австро-Венгрии им не суждено.
А коль так, то именно противостояние Тройственного союза и Антанты давало Сербии этот шанс, и было бы непростительным грехом не воспользоваться им
Касаясь положения на Балканах после Бухарестского мира 1913 года, Ю.А.Писарев в своей книге «Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны» указывал, что «военные круги Сербии призывали к походу на Австро-Венгрию».
Более того, сразу после Второй Балканской войны русский посланник в Цетинье А.А. Гире в записке, озаглавленной «Австро-Венгрия, Балканы и Турция. Задачи войны и мира» предлагал отказаться от односторонней поддержки авантюрного курса правителей Сербии и их планов присоединения к ней населенных югославянами территорий Монархии.
Русский дипломат еще в 1913 году пророчески предсказал, что «Великая Сербия» рано или поздно отойдет от России. Как отошла от нее после освобождения от турецкого ига Болгария, тоже мечтавшая стать великой.
Именно поэтому Гире пришел к выводу о необходимости изменения российской политики на Балканах: от конфронтации с Австро-Венгрией к сотрудничеству с ней в «духе Мюрцштега».
Напомним, что в 1903 году Илинденское восстание в Македонии привело к новому обострению ситуации на Балканах, и именно тогда Петербург и Вена скоординировали свои действия для успокоения региона.
В результате 3 октября в австрийском городке Мюрцштеге было подписано русско-австрийское соглашение о реформах в Македонии.
Султан вынужден был принять положения соглашения.
Мюрцштегское соглашение позволило во время русско-японской войны закрепить отношения с Австро-Венгрией секретной декларацией о взаимном нейтралитете.
Она была подписана в декабре 1904 года в Петербурге. Договор гарантировал нейтралитет в случае «неспровоцированного» конфликта с третьей державой вне Балканского полуострова.
Предусматривалось, что договор будет действовать до тех пор, пока Вена и Санкт-Петербург будут вести согласованную политику в делах Османской империи.
Как и многие европейские политики, Гире считал сохранение Австро-Венгрии в интересах России. А потому и призывал к согласованию интересов обеих держав вплоть до раздела сфер влияния на Балканах.
Его не послушали.
А между тем, Вена и Берлин только в 1913 году трижды предлагали Петербургу возродить союз трех императоров, преследуя цель оторвать Россию от Франции и Англии.
Однако царь на это не пошел.
Противоположную Гире позицию занимал российский посланник в Белграде Н.Г. Гартвиг, считавший, что именно Сербия является надежной опорой России на полуострове.
Такого же мнения придерживался влиятельный дипломат А.П. Извольский, посол в Париже, бывший министр иностранных дел.
Все это так.
Но одно дело предположения, и совсем другое – жизнь.
Да и как, интересно было бы узнать, Россия ужилась бы на Балканах с Австро-Венгрией со своими совершенно разными интересами?
Но это уже вопрос из сослагательного времени, и ответить на него не сможет никто.
Значит, надо было любым способом втянуть в войну Россию, ибо только военное поражение Монархии давало шансы на присоединение к Сербии населенных сербами, хорватами, словенцами земель Венгрии и Австрии.
Никакая другая страна на это просто бы не пошла, ибо гробить свою армию ради чужих интересов желающих не было.
Понимали ли в Белграде то, что конфликт с Австро-Венгрией может вылиться в мировую войну?
Любому политику было ясно, что предъявленный Веной ультиматум являет собой хорошо продуманную провокацию и неисполнение любого его пункта повлечет за собой военные действия.
Наверное, все-таки понимали. Но не остановились. Потому что терять-то по большому счету было нечего.
Вена никогда бы не пустила на самотек развитие Сербии, и сил у нее, во всяком случае, в то время было больше.
«Два принципа были в резком конфликте друг с другом, – объяснял желание Австро-Венгрии покончить с Сербией начальник Генерального штаба австро-венгерской армии и один из самых ярых приверженцев войны К. фон Гетцендорф, – либо сохранение Австро-Венгрии как конгломерата национальностей, который должен выступать в виде единого целого перед внешним миром и видеть свое общее благо под властью одного государя, или же рост отдельных независимых национальных государств, притязающих на свои этнические территории Австро-Венгрии и таким путем вызывающих разрушение монархии.
Конфликт между двумя этими принципами, нараставший давно, достиг высшей стадии вследствие поведения Сербии. Его разрешения нельзя было откладывать».
А раз так, то рано или поздно Сербия могла бы потерять незавимость и стать частью Империи.
Что было бы, если бы Сербия приняла все условия?
А вот тогда бы Австро-Венгрия рано или поздно обязательно нашла бы какой-нибудь другой повод к войне. Потому что дело было не в ультиматуме, а в стране, которая постоянно угрожала целостности Монархии. И в стоявшей за ней Германией, желавшей воевать именно летом 1914 года, против слабой России и не желавшей войны Франции.
И в какой уже раз восторжествовал лозунг Наполеона: главное – ввязяться в бой, а там будь, что будет!
Если же подвести итог нашему рассказу о терроре, как политическом методе, и идее создания Великой Сербии, то, надо полагать, тогдашним правителям Сербии и полковнику Апису было, что скрывать.
В том числе и от России, на которую они делали свою ставку.
Именно поэтому они приняли все унизительные условия австрийского ультиматума, кроме того, которое требовало проведения следствия на территории Сербии австрийскими чиновниками.
Конечно, это только предположение, но ничего странного в нем нет.
Что было на самом деле?
На сегодняшний день обширнейшей литературе о покушении в Сараеве существует три версии заговора.
Согласно первой, сын убитого эрцгерцога Максимилиан Гогенберг в интервью газете «Пари суар диманш» 16 июня 1936 говорил о том, что его отца ликвидировала германская секретная служба.
Все дело было в том, что наследник венского престола мешал осуществлению великодержавных планов кайзера Вильгельма.
Эта версия давно опровергнута в литературе, хотя и имеет под собой известное основание: Франц Фердинанд был убит при полном попустительстве охраны.
Согласно второй, убийство эрцгерцога было подготовлено сербской тайной офицерской организации «Объединение или смерть», известной также под названием «Черная рука».
При этом сербское правительство и русский Генеральный штаб будто бы покровительствовали этому заговору.
Одним из основных источников в исследовании сараевского убийства стали документы судебного процесса по делу «Черной руки», состоявшегося в Салониках в марте – июне 1917 года.
Организуя суд, сербское правительство преследовало три цели: разгромить оппозицию в лице тайного, но могущественного офицерского союза, оздоровить обстановку в армии и возложить ответственность за убийство в Сараево на «Черную руку».
Все это делалось для того, чтобы открыть путь к мирным переговорам с Австро-Венгрией, которые намечались в 1917 году.
Судебный процесс велся с грубыми нарушениями законности, при закрытых дверях, подсудимые не имели защитников, военным трибуналом широко использовались лжесвидетели.
После суда правительство опубликовало сборник «Тайная заговорщическая организация», включив в него только материалы обвинения, что придало изданию односторонний характер.
Главный документ судебного разбирательства – рапорт руководителя «Черной руки» полковника Димитриевича Верховному командующему сербской армией принцу-регенту Александру – по распоряжению последнего был изъят из этого сборника и стал известен только в тридцатые годы.
Полковник опротестовал все необоснованные обвинения военного трибунала в государственной измене и в непосредственной организации сараевского убийства.
Он категорически отверг версию о том, что в убийстве эрцгерцога был замешан военный агент полковник В.А. Артамонов.
Сам Артамонов доказал свое полное алиби. Во время покушения он находился на излечении в Швейцарии.
Важную роль в опровержении материалов судебного процесса сыграли свидетельства таких очевидцев, как революционер Мустафы Голубича и один из функционеров «Черной руки» Чедомир Попович.
Последний договорился до того, что на полном серьезе утверждал, Димитриевич, узнав о заговоре, хотел предотвратить его.
По его словам, Апис опасался, что убийство Франца Фердинанда может быть использовано правящими кругами дунайской империи как предлог к нападению на Сербию.
Окончательную точку в этой не такой уж и запутанной истории поставил судебный процесс по делу «Черной руки», состоявшийся в Югославии в 1953 году.
Он отменил приговор салоникского военного трибунала (Димитриевич и многие его соратники были расстреляны) и снял все обвинения с названной организации.
Наконец, третья концепция исходит из того, что сараевское покушение было организовано членами национальной революционной организации «Молодая Босния» как ответная акция террористов на насильственное присоединение в 1908 году к Австро-Венгрии Боснии и Герцеговины.
В настоящее время именно этой версии придерживаются многие исследователи.
Что же касается террористов, то их судили на так называемом Сараевском процессе.
Однако сразу же после распада Австро-Венгрии в 1918 году все документы этого процесса каким-то таинственным образом исчезли.
Правда, оставались еще государственные архивы Сербии, которые были захвачены Австро-Венгрией и которые неопровержимо доказывали связь группы Принципа с «Черной рукой».
Но и они пропали после того, как в 1919 году Австрия вернула их сербам.
Катер, перевозивший их по Дунаю, бесследно исчез, хотя в тот день не было ни штормов, ни артобстрелов.
Концы этого скользского дела были в буквальном смысле брошены в воду.
Всего по сараевскому процессу были осуждены 16 человек, из них троих казнили.
Принцип, Чабринович и Грабеж получили по 20 лет, поскольку к моменту преступления им еще не было двадцати, и по австрийскому закону смертная казнь к ним не могла быть применена.
Тем не менее, никто из них не дожил до освобождения.
При загадочных обстоятельствах окончил свои дни лидер «Молодой Боснии» Владимир Гачинович.
В августе 1917 года он внезапно заболел.
Швейцарские врачи дважды делали ему операцию, подозревая то одно, то другое, и каждый раз ничего не обнаруживали.
11 августа Гачинович умер.
Некоторые считают, что он был отравлен своими бывшими соратниками, которые хотели отомстить ему за репрессии, обрушенные на них австро-венгерскими властями.
Остается невыясненной до конца и версия о том, что Гачинович в последний момент будто бы послал в Сараево письмо заговорщикам с предложением отказаться от покушения на Франца Фердинанда, которое не было принято фанатиком Принципом.
Судьба самого Принципа тоже трагична.
Он был брошен в тюрьму в Терезиенштадте, где и умер в страшных мучениях 28 апреля 1918 года.
Труп Принципа был тайно захоронен в тюремном дворе, и только в 1920 году его останки перезахоронены в братской могиле вместе с другими умершими участниками заговора на сараевском кладбище.
На том самом кладбище, где он так любил собираться с товарищами и черпал вдохновение.
Но самое интересное заключается в том, что, как это не покажется невероятным, планы психически неполноценных заговорщиков (перед покушением Принцип несколько ночей провел на могиле террориста Жераича, где обащлся с духом «героя»), не брезговавших ничем офицеров спецслужб и откровенных бандитов сбылись.
От Австро-Венгрии остались одни воспоминания.
Хорватия, Босния, Словения, Герцоговина, Черногрория и Македония были объеденины в Королевстве СХС (Сербов-хорватов-словенцев).
В 1929 году это государство стало называться Югославией.
Великая Сербия увеличилась по территории с 28 до почти 300 тысяч квадратных километров.
Не были забыты и «герои» 1914 года.
В 1920 году останки убийц эрцгерцога и его супруги перезахоронили в Сарево и возвели в ранг «национальных героев».
В 1953 году, уже при И.Тито, сербы признали и роль своих спецслуцжб в убийстве наследника австрийского престола.
Более того, деятельность Аписа и его подельников была официально признана «полезной для освобождения балканских народов».
А вот от наследника России – Советского Союза – Великая Сербия в лице Югославии все же откололась. Чем вызвала страшный гнев лучшего друга всех покоренных им в Восточной Европе народов.
Глава IV. Угол отражения…
Несмотря на все усилия российской дипломатии, первые шаги русского правительства на пути мирного улаживания австро-сербского столкновения не дали желанных результатов.
Англия уклонилась от заявления, о котором ее просили из Москвы, а Берлин твердил о необходимости локализации австро-сербского столкновения и намерении Германии оказать всякую поддержку своей союзнице.
В Париже быстро поняли общеевропейский характер начинавшегося кризиса и не давали себя сбить с толку его балканским происхождением.
Что же касается России, то она продолжала свои попытки парализовать злую волю Австро-Венгрии и добиться пересмотра недопустимых требований венского кабинета путем посредничества держав даже после последовавшего 25 июля разрыва отношений между Австро-Венгрией и Сербией.
Полагая, что Италия не одобряла образа действия Австро-Венгрии, Сазонов поручил послу в Риме А.Н. Крупенскому просить маркиза Сан-Джулиано откровенно высказать в Вене свое несочувствие австрийским решениям и разъяснить Берхтольду невозможность локализации конфликта, а также и неизбежность русской поддержки Сербии.
Как и предполагал русский министр, Италия выразила отрицательное отношение к положению, занятому венским кабинетом в конфликте с Сербией.
Как только скрывавшееся от Италии намерение венского кабинета поставить Сербию в безвыходное положение стало известно в Риме, оно возбудило там неудовольствие и тревогу.
Еще за несколько дней до обращения Сазонова к маркизу Джулиано тот сообщил германскому послу, что ему кажется невозможным любое представление сербскому правительству со стороны Австро-Венгрии по поводу убийства наследного эрцгерцога ввиду того, что оно было совершено австрийским подданным.
Лица, близко стоявшие к министру, заявляли, что Австро-Венгрия, предъявив неумеренные требования, поставила себя в невыгодное положение и не могла бы рассчитывать на поддержку Италии.
Сан-Джулиано избегал прямого обмена мыслями с австрийским послом в Риме, но не скрывал своих взглядов от германского посла фон Флото.
Он откровенно сказал тому, что Италия не примет участия в политике подавления национальностей. О чем Флото тут же сообщил в Берлин.
Доклад фон Флото вызвал известное беспокойство в германском министерстве иностранных дел, но никоим образом не повлиял на позицию Германии.
Одновременно с обращением в Рим Сазонов просил Берхтольда разрешить австро-венгерскому послу в Петербурге рассмотреть с ним в частном порядке текст ультиматума и по взаимному соглашению изменить в нем те места, которые казались Сазонову особенно неприемлемыми.
Ответ от Берхтольда пришел через сорок восемь часов. В нем он сообщал, что не может входить в обсуждение условий австрийского ультиматума.
Более того, он поручил графу Сапари передать Сазонову о невозможности принятия подобного рода предложений.
Из Берлина вести были не лучше.
Фон Ягов заявил, что повлиять на Вену «в примирительном смысле» он не может.
Что же касается продолжавшей темнить среди белого дня Англии, то Лихновский уже 27 июля почувствовал, что Лондон все же вступит в войну.
О чем и сообщил в Берлин.
Конечно, с Берлином Грею следовало говорить более твёрдым и ясным языком, но было то, что было.
Грей предложил организовать посредничество Англии, Франции, Германии и Италии для обсуждения способов разрешения кризиса.
Мотивы, которыми при этом руководствовалось Министерство иностранных дел, раскрывает в своих мемуарах сам Грей.
Он считал, что обсуждение создавшейся обстановки за зелёным столом даёт некоторый шанс спасти мир. Но если бы это и не удалось, то и тогда конференция не принесла бы вреда Антанте.
«Я полагал, – писал он, – что германские приготовления к войне были продвинуты много дальше, нежели приготовления России и Франции.
Конференция дала бы возможность этим двум державам подготовиться и изменить ситуацию к невыгоде для Германии, которая сейчас имеет явное преимущество».
Заявление Грея преследовало две цели: созвать под председательством Грея в Лондоне комиссию для изыскания способа разрешения спора и приостановку Австро-Венгрией и Сербией военных приготовлений до окончания совещания посредников.
Одновременно с Греем французский посол в Берлине Жюль Камбон предложил «воздержаться от всякого действия, которое могло бы обострить настоящее положение».
Однако как предложение Грея, так и формула Камбона были отвергнуты Бетманом-Гольвегом и фон Яговым.
Отрицательный ответ Германии вызвал отсрочку роспуска британского флота, собранного для маневров в Немецком море.
Что не помешало Грею заявить австро-венгерскому послу о том, что Англия не собирается созывать резервистов, а мера по отношению к флоту не заключает никакой угрозы.
Но при этом добавил, что ввиду «возможности европейской войны английское правительство не сочло возможным разбрасывать свои силы».
Если, по словам английского министра иностранных дел, не следовало видеть угрозы в военной мере, принятой Англией, то в словах его к графу Менсдорфу трудно было не усмотреть серьезного предостережения.
В Берлине и Вене к ним отнеслись как к попытке запугивания.
Но в то же самое время там с каким-то необъяснимым упрямством продолжали верить в то, что Англия не уступит в войну.
Как известно из физики, угол отражения равен углу падения.
В истории этот закон выразил знаменитый английский историк Д.Тойнби, создавший теорию «Вызов – Ответ».
Согласно этому закону любое общество по-настоящему начинает действовать только под влиянием внешнего раздражителя.
Так, русские удельные князья не только не собирались объединяться, но и делали все возможно, чтобы этого не произошло.
Однако под влиянием окруживших их врагов из Дикой степи – половцев, хазаров и татар (Вызова) – они объединились вокруг самого сильного на тот момент Московского кнзязя (Ответ).
В нашем же случае это означает только то, что под нажимом рвавшейся воевать Австро-Венгрии России надлежало приступать к общей мобилизации.
Однако этого не произошло.
26 июля по инициативе вернувшегося из командировки обер-квартирмейстера генерала Ю.Н. Данилова в Генеральном штабе состоялось совещание.
На нем присутствовали Н.Н. Янушкевич, начальник мобилизационного отдела С.К. Добророльский и начальник военных сообщений С.А. Ронжин.
Вопрос был один: характер предстоящей мобилизации.
– Если, – заявил Данилов, – производство частной мобилизации со многими измененяими и удастся провести на фоне тех расчетов, которые разработаны для общей мобилизации, то лишь ценою большой ломки всех расчетов, что не может не нарушить точности ее выполнения. Главное же заключается в том, что производство частной мобилизации, спутав все расчеты, технически ставит в полную невозможность выполнить вслед за нею общую мобилизацию, главным образом по причине раздвоения работы железных дорог. Что бы мы с вами здесь не говорили, но Австро-Венгрия представляет в настоящее время серьезную силу, для победы над которой все равно придется мобилизовать всю нашу армию, а не только часть ее. Избытка в стратегии не существует…
Добророльский и Ронжин поддержали Данилова.
В итоге решено было подготовить два проекта указа о частной и общей мобилизации и подготовить специальный доклад царю, разъясняющий опасность первой.
К вечеру С.К. Добророльский подготовил для начальника Генерального штаба проект докладной записки военного министра царю, в котором давались расчеты по общей мобилизации 3,5 млн. человек.
«Генерал Янушкевич, – писал в «Истории русской армии» Кресновский, – представил Государю на выбор и на подпись два указа: об общей мобилизации и о частичной мобилизации четырех округов, войска которых предназначались к действию против Австро-Венгрии: Киевского, Одесского, Московского и Казанского.
Этот последний вариант был элементарной мерой предосторожности против уже вооружившегося соседа.
Чтобы понять весь драматизм ставшей перед Государем дилеммы – сразу общая мобилизация или сперва частичная, надо иметь в виду, что, произведя частичную мобилизацию, Россия уже не могла произвести общей мобилизации.
Четыре юго-восточных округа мобилизовывались ценою бесповоротного расстройства трех наиболее важных стратегических северо-западных округов.
Мобилизационное расписание не предусматривало частичной мобилизации отдельных округов. Частичные мобилизации должны были быть разработанными лишь по 20-му мобилизационному расписанию, еще не утвержденному.
Имелись планы мобилизации отдельных корпусов для усиления сибирских округов в случае войны с Японией и Кавказской армии в случае войны с Турцией.
Мобилизовав только против Австро-Венгрии, мы рисковали бы впоследствии быть беззащитными против Германии.
Не следует забывать, что Казанский округ комплектовал Варшавский, а отчасти и Виленский. Гвардия почти целиком пополнялась Киевским округом.
В случае частичной мобилизации все эти запасные получали другое назначение.
Отметим еще одну катастрофическую особенность частичной мобилизации: она оставляла неприкрытой южную часть Варшавского округа, на которую как рае и обрушивался главный удар австро-венгров».
В тот же день в России были получены сведения о том, что в Австро-Венгрии объявлена частная мобилизация.
Из Берлина сообщали о манифестациях в поддержку Австро-Венгрии.
Местная пресса начала активную подготовку общественного мнения в пользу поддержки действий против России. Обстановка накалялась.
Всем было ясно, что кайзер и его окружение окончательно взяли курс на развязывание войны. Наступали решающие дни Сараевского кризиса.
В Генеральный штаб постоянно приходили сведения об австрийских мобилизационных мероприятиях в Галиции у российской границы и о возвращении проживавших в России германских и австрийских подданных – офицеров запаса – на родину.
Во второй половине дня 26 июля штаб получил известие о том, что австрийские войска, расположенные в районе города Костолац, подвергли артобстрелу сербский берег Дуная, захватили три сербских парохода и начали сосредоточение на границе с Россией.
Дипломатические переговоры еще велись, но с момента нападения Австро-Венгрии на Сербию дипломатам и политикам во всех европейских столицах было уже ясно: время переговоров кончилось и очень скоро конфликтующие страны будут говорить на совершенно другом языке – языке пушек.
Днем царь вместе с дядей Николашей появился в Думе, дабы внушить стране мысль о своем единении с народом.
Как и всегда в таких случаях, было много патетических речей и ликований.
Встречу испортили фракция РСДРП(б), которая в полном составе покинула Думу во время голосования за военные кредиты правительству.