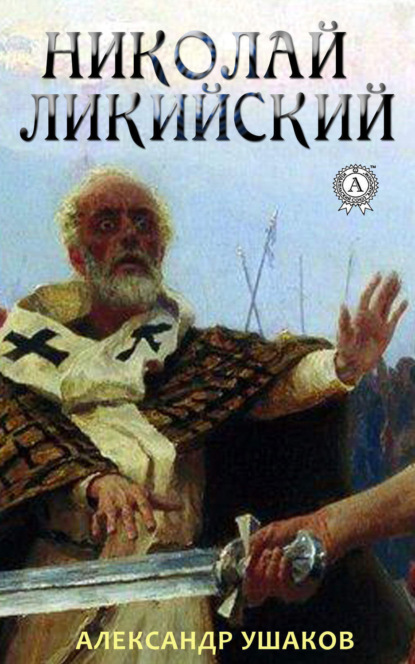Полная версия:
Александр Ушаков Операция «Престол»
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Александр Ушаков
Операция «Престол»
Пролог
I
Стоявшие недалеко от камина большие напольные часы мягко пробили восемь раз.
Ганс Пикенброк отложил книгу, поднялся из глубокого кресла и, с наслаждением потянувшись, подошел к окну.
За окном темнел сад.
Термометр за окном показывал девять градусов мороза.
В темном воздухе кружились большие снежинки.
Пикенброк достал из кармана халата желтой кожи портсигар с инкрустацией и вынул из него сигарету.
Прикурив, он глубоко затянулся, чувствуя, как слега кружится голова, затем выпустил огромное облако дыма.
На душе у него было не спокойно. Еще днем его шефа, адмирала Канариса, вызвали к фюреру, и до сих пор от него не было никаких известий.
Пикенброк никогда не ждал от срочных вызовов к начальству ничего хорошего. И чем выше это начальство сидело, тем печальнее все эти вызовы окачивались.
А тут сам фюрер!
Пикенброк начал свою службу в абвере еще при капитане 2-го ранга Конраде Патциге в 1932 году.
В один прекрасный январский день 1935 года капитан имел неосторожность выступить в конфликт с Гиммлером по поводу разведывательных полётов над польской территорией.
Затем он срочно был вызван к фюреру и… новым руководителем Абвера стал капитан 1-го ранга Вильгельм Канарис.
Пикенброк хорошо относился к Патцигу, который всегда ценил его, но, как профессионал, полковник должен был признать, что тот не шел ни в какое сравнение с Канарисом.
И дело было даже не в том, что Канарис имел большой опыт разведывательной работы.
Опыт дело наживное!
Он имел то, что было недоступно Патцигу: размах!
И именно по этой причине абвер времен Патцига и времени Канариса разнились между собой так, как рознилась зима в Берлине с зимой под Москвой.
До Канариса Абвер представлял собой небольшую, не имевшую никакого политического веса организацию, выполнявшую узкие задачи армейской спецслужбы.
При Канарисе Абвер вырос в количественном отношении, расширил свои функции, стал влиять на политику Германии и конкурировать с другими спецслужбами Третьего Рейха – СД и Гестапо.
Более того, в 1936 году Канарис добился подписания соглашения о разграничении полномочий Абвера, СД и Гестапо, известного как «Договор десяти заповедей».
СД отвечало за политическую разведку в Германии и за её пределами.
Расследование государственных, политических, уголовных дел, а также проведение следственных действий и арестов возлагалось на Гестапо.
В компетенции Абвера оставались задачи военной разведки и контрразведки.
Однако не всё было так гладко, как об этом говорилось в Договоре.
Империя СС Гиммлера быстро росла, усиливалась и конкуренция со стороны СД и Гестапо, и уже в конце 1936 года в здании Абвера обнаружили микрофоны, установленные техниками СД.
После громкого скандала и вмешательства самого фюрера микрофоны убрали, а вот подозрительность друг к другу у спецслужб осталась.
Не редко к этой подозрительности примешивалась откровенная вражда и ревность.
Полковник еще раз глубоко затянулся.
На душе было неспокойно, поскольку в канцелярию к Гитлеру шефа могла привести очередная разборка между спецслужбами.
И если у Канариса будут неприятности, то они коснуться и его, начальника 1-го отдела управления разведки и контрразведки и заместителя начальника Абвера.
Он еще раз затянулся, затем подошел к пепельнице и загасил окурок.
И в этот самый момент услышал шум подъехавших к даче машин.
Он поспешил на крыльцо и на его ступеньках столкнулся с Канарисом, как всегда бесстрастным и холодным.
Они вошли в дом, Канарис разделся и прошел в теплую и светлую комнату.
– Что-нибудь выпьете, Вильгельм?
– Да, кофе и рюмку коньяка!
Пикенброк взял со стола сербьеряный колокольчик. Через мгновение в комнате появился слуга.
– Коньяк, кофе и пироженых! – приказал полковник.
Слуга поклонился и так же бесшумно исчез.
Когда стол был накрыт, Канарис сделал два небольших глотка и с видом знатока покачал голвоой:
– Хороший у вас кофе, Ийоган!
– Бразильский…
Канарис поставил чашку на стол и взглянул на подчиненного.
– Какое сегодня число? – спросил он.
– 18 декабря 1940 года, – ответил Пикенброк, несколько удивленный странным вопросом шефа.
Канарис встал из-за стола и подошел к окну.
– Да, – произнес он, глядя в сад, – все как всегда. А между тем, – повернулся он к полковнику, – этот день войдет в мировую историю, поскольку именно сегодня, 18 декабря 1940 года, фюрер подписал план нападения на Россию! План предусматривает молниеносный разгром основных сил Красной армии западнее рек Днепр и Западная Двина. Затем захват Москвы, Ленинграда и Донбасса с последующим выходом на линию Архангельск – Волга – Астрахань. Предполагаемая продолжительность основных боевых действий 4–5 месяцев…
Канарис вернулся к столу и отхлебнул кофе.
– Снова блицкриг, – без особого энтузиазма произнес не очень-то удивленный услышаным Пикенброк.
– Да, снова! – кивнул Канарис. – Но будем надеяться, что на этот раз более успешный…
Конечно, Пикенброк мог бы многое сказать по этому поводу.
Он много раз бывал в России, хорошо знал ее и даже не сомневался в том, что с одного удара русского медведя не уложить.
Но промолчал.
Да и что он мог сказать?
Решение было принято, он был солдатом, и ему оставалось только подчиняться приказам.
Да что там Пикенброк!
Сам Канарис уже тогда был уверен в том, что Германия не сможет выиграть войну, так легкомысленно начатую Гитлером.
Другое дело, что его вера была основана на убежденности в том, что в мире существует божественный порядок, который не дано изменить никаким фюрерам.
Но обсуждать сейчас, когда был подписан план нападения на Россию, эту щекотливую тему было бессмысленно.
И, ценя деликатность своего подчиненного, Канарис сказал:
– Спасибо, Иоганн… Как вы понимаете, – заговорил он совсем другим тоном, в котором уже не было искренности, – Москву и Ленинград будут брать Манштейн и фон Бок, а у нас с вами другие задачи…
Пикенброк понимал.
Да, у них были другие задачи, и он, ведущий специалист рейха по разведывательным операциям и созданию пятых колонн за гарницей знал это лучше других.
В тот исторический, и одновременно трагический, как считал Канарис, для Германии день, день они проговорили до часа ночи.
Но и после того, как Канарис уехал, Пикенброк еще долго сидел в кресле и задумчиво курил.
Что там говорить, работы был непочатый край, и начинать этот самый край надо было уже сегодня.
Но даже он, один из асов абвера, не мог даже предположить, что в эту самую минуту передавалась в Москву шифровка о совещании у Гитлера…
На следующий день отправил свою шифровку в Москву и Пикенброк.
Через несколько часов один из сотрудников германского посольства сказал всего несколько фраз случайно попавшемуся ему на пути человеку, однако тот в лучших традициях конспирации прошел мимо, сделав вид, что ничего не заметил.
II
Через два дня после описанных выше событий Иосиф Сталин сидел в своем кабинете в Кремле и читал «Государя» своего любимого Макиавелли.
Но сегодня знаменитый флорентийский мыслитель вызывал у лучшего друга всех философов раздражение.
Да, он, конечно же, был прав, когда утверждал, войны нельзя избежать, а можно лишь оттянуть ее.
Конечно, промедление тоже не может обернуться чем угодно, ибо время приносит с собой как зло, так и добро, как добро, так и зло.
Не согласен же лучший друг всех философов был с утверждением Макиавелли о том, что сторона, оттягивающая войну, играет на руку противнику.
Разве он играл на Германию, подписав с ней пакт Молотова-Риббентропа?
Играл, конечно, но только в известной степени. Но в куда большей степени он играл на себя, выигрывая время.
Пройдет еще год-два, он создаст мощную армию, вооружит ее самой современной техникой и тогда…
А что, собственно, будет тогда, Сталин не конкретизировал.
Ему не хотелось думать о том, что немцы тоже не будут сидеть эти два года, сложив руки, что за два года надо воспитать несколько сотен тысяч командиров всех уровней, взамен уничтоженным им, что непосредственная граница с Германией позволяет вермахту всего через несколько минут после начала войны оказаться на советской территории.
Сложно сказать, понимал ли сам Сталин, что он никогда не был ни хорошим тактиком, ни, тем более, стратегом.
И именно поэтому будущее всегда оставалось для него непонятным и туманным.
Нет, не будущее какого-то там Тухачевского, обреченного на заклание, (с этим-то как раз все было ясно), а будущее того, что принято называть ходом истории.
Именно поэтому он не любил вспоминать семнадцатый год и все то, что было с ним связано.
Ведь именно тогда, на самом крутом повороте российской истории до апрельской конференции он все делал против Ленина.
И не надо было оправдываться тем, что он пошел тогда на поводу у Каменева.
Нет!
Он и сам тогда думал точно так же, как и его тогда еще старший друг.
Ленин выступал против войны, а они с Каменевым со страниц «Правды» призывали к ее продолжению.
Ленин был против любого компромисса с любыми партиями, а он, Сталин, ходил к меньшевикам договариваться о сотрудничестве.
Да и не верил он, говоря откровенно, ни в какой переворот. И только недавно до него дошло, что дело было не вере, а в том, что пока был хоть какой-то, пусть даже самый мизерный шанс, надо было цепляться за него.
Как цеплялся за него Ленин.
Да, Старик и сам мало верил в успех, иначе не приказал бы ему готовить конспиративные квартиры и коридор для ухода за границу в случае провала переворота.
Тем не менее, он пошел на него и насильно повел за собой всю партию…
Раскрывшая в кабинет дверь заставила Сталина оторваться от воспоминаний.
В дверях появился начальник Разведывательного управления Генерального штаба генерал Голиков с двумя черными папками в руках.
– Разрешите, товарищ Сталин! – застыл на пороге генерал.
Сталин кивнул и против своего желания задержал взгляд на папках, которые держал Голиков. И он, наверное, очень бы удивился, если бы узнал, что в них содержатся противоположные взгляды на одни и те же вопросы.
Все дело было в том, что с некоторых пор Голиков имел обыкновение ходить на доклады к Сталину с двумя папками.
Если настроение у вождя было не очень пасмурное (хорошим оно почти никогда не было), Голиков доставал донесения из папки, где собиралась более или менее правдивая информация.
Если же Голиков от секретарей узнавал, что «хозяин» не в духе, то выкладывал сведения из другой – «благополучной» папки.
Со временем он станет ходить на доклад к Сталину только с одной папкой, проскольку прикажет своим сотрудникам собирать только такую информацию, которая совпадала с мнением вождя.
Сегодня Сталин не выглядел хмурым, да и Поскребышев ободрительно улыбнулся ему в ответ на его вопросительный взгляд.
Да и вопрос, с которым пришел сегодня Голиков к Сталину был слишком важным.
И кто знает, как поведет себя Сталин, если узнает о том, что ему не доложили о том, что происходило в ставке Гитлера 18 декабря.
Кивком головы Сталин пригласил генерала войти, однако сесть не предложил, и тот так и остался стоять посередине кабинета.
– Что у вас, товарищ Голиков? – спросил Сталин.
Голиков прекрасно знал об отношении Сталина к донесениям разведчиков и думал только об одном: как бы ему выйти из этого кабинета одному, а не в сопровождении конвоя.
Но докладывать было надо.
Голиков не стал доставать из папки бумаги, поскольку прекрасно знал все то, что говорилось в этих документах.
Но чем убедительнее говорил Голиков, тем мрачнее становилось выражение побитого оспой желтоватого лица Сталина.
И причины у него для этого были.
Подумать только!
Он убеждал весь мир в том, что никакой войны не может быть, а эти вечные конспираторы и заговорщики чуть ли не каждый день доказывали обратное.
То очередной резидент, то высокопоставленный дипломат, а то просто какой-то там антифашист наперебой сообщали о датах, часах и даже минутах начала войны.
И сейчас Сталин даже не сомневался в том, что в черной папке начальника разведки лежат очередные послания всех этих нелегалов с их истерическими призывами развертывать на границе войска и готовиться к войне.
А причина его неверия была проста, как выведенное яйцо. И дело было даже не в тех зачастую действительно расходившихся данных, за которыми могла стоять дезинформация не дремавшей немецкой разведки.
Отнюдь!
Все дело было в том, что Сталин со своим огромным самомнением уверовал в то, что он обманул Гитлера и тот отнесется к пакту о ненападении со всей ответственностью.
Как ни странно, но Гитлеру поверил тот самый Сталин, который никогда никому не верил.
И это, несмотря на то, что донесения, которые Сталин получал из Генерального штаба, от пограничников и моряков, от военной и политической разведки, из дипломатических источников и даже из германского посольства в Москве были очень тревожны.
Однако и в Кремле, в Наркомате обороны царило относительное спокойствие.
Сталин был уверен в том, что Германия не будет вести войну на двух фронтах, у него имелись на этот счет заверения от самого Гитлера.
К тому же разведчики уже много раз ошибались, передавая в Москву не только не точную, но и заведомо ложную информацию, поскольку все немецкие службы дезинформации работали перед войной на полную мощность.
Ну и само собой понятно, что мнение товарища Сталина никто даже не решался оспаривать.
Голиков закончил свой доклад, даже не дойдя до середины.
Сталин остановил генерала жестом руки и хмуро спросил:
– А вы сами-то верите всему этому? – брезгливо указал он зажатой в руке холодной трубкой на так и не раскрытую папку.
– Товарищ Сталин, – осторожно подбирая слова, ответил генерал, – я не могу сказать, что я всецело доверяю сообщениям наших агентов, но в то же самое время наше Разведывательное управление считает своим долгом донести до вашего сведения всю получаемую нами информацию…
– Спасибо! – недобро усмехнулся Сталин. – Донесли! Из всего сказанного здесь вами мне не понятно только одно, – слегка повысил он голос, – как вы, профессионалы, не можете понять такой простой вещи, что почти за каждой фразой этих донесений скрывается дезинформация!
Голиков молчал.
Он уже начинал понимать, что ошибся с папкой и любое невпопад сказанное им слово может кончиться для него трагически.
Тем временем Сталин медленно, как и все, что он делал, раскурил трубку и, глубоко затянувшись, выпустил огромное облако душистого синего дыма.
– Если вы, товарищ Голиков, – донесся до генерала негромкий и от этого еще более зловещий голос Сталина, – не понимаете этого, то мы можем подыскать на ваше место более понятливого человека…
Голиков вздрогнул.
Это была уже прямая угроза, а, как ему было хорошо известно, слов на ветер вождь никогда не бросал.
Облизав сразу же ставшие сухими губы, он развел руками.
– Товарищ Сталин, – с некоторой поспешностью заговорил он, словно опасаясь того, что ему не дадут высказаться, – мы достаточно трезво оцениваем ситуацию и, поверьте, все наше беспокойство вызвано только тревогой, которую все мы испытываем за нашу великую страну. И мы заверяем вас, что всегда будет проводить линию нашей родной партии, разработанную под вашим мудрым руководством и…
Сталин продолжал, молча, курить, и по его лицу не было заметно, сменил ли он гнев на милость.
В эту минуту он не думал ни о вере в него всего Разведывательного управления, ни лично товарища Голикова.
Ему было скучно.
Он уже много раз ловил себя на том, что его давно уже перестали радовать любые дифирамбы в его адрес.
Особенно если они шли от тех, кто вращался в самых верхах.
Массы?
Да, там другое дело, и когда наивные и по-своему верившие в него как в Бога люди выражали свое неподдельное восхищение к нему, он слушал их с той снисходительностью, с какой утомленный знаниями профессор слушает студента.
А эти! Высокопоставленные…
Им он никогда не верил.
Более того, он прекрасно понимал, что Голиков сейчас старается не защитить порученное ему дело, а угодить ему.
И прояви он сейчас интерес ко всему тому, что находилась в черной папке генерала, он услышал бы совсем другие речи.
Тем временем Голиков умолк и смотрел на вождя с таким выражением на лице, словно испрашивал у него прощение за то, что осмелился не поверить его гению и иметь свои собственные суждения.
– Ладно, – махнул рукой Сталин, – это я так, к слову. Идите, товарищ Голиков, работайте и впредь думайте, ведь это ваше главное оружие. Не так ли? – неожиданно сверкнул Сталин желтыми, как у кота, глазами.
– Так точно, товарищ Сталин! – вытянулся Голиков, с облегчением понимая, что на этот раз гроза прошла мимо.
Сталин, не прощаясь, сел за стол и снова принялся за «Государя».
Голиков щелкнул каблуками, повернулся и чуть ли не строевым шагом вышел из кабинета.
Сталин с какой-то брезгливостью смотрел ему в спину. И этот такой же, как все. Чуть надавили, и он уже готов и каяться, и верить ему, и не верить себе…
Он усмехнулся.
В последнее время он все чаще ловил себя на мысли, что ему очень хочется услышать возражения и поспорить.
Так, как когда-то спорил Ленин, который хоть и не терпел инакомыслящих, но рот никому не затыкал.
Сталин вздохнул.
Может быть, в этом и была его сила, может быть, именно поэтому немногие оставшиеся его стараниями в живых из ленинской гвардии с такой тоской и вспоминал те счастливые для них дни, когда каждый мог пройти против вождя и не получить за это пулю…
Да, Каменев, Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Раскольников пытались спорить.
Чем все это кончилось?
Правильно!
Иных уж нет, а те далече…
III
Голиков приехал в свое ведомство в мрачном настроении.
Отложив все совещания и встречи, он закрылся в своем кабинете и без малейшего перерыва выпил два стакана водки.
Усевшись в кресло, он закурил и с удовлетворением чувствовал, как вместе с разливавшимся по всему телу теплом уходит почти суточное напряжение.
А нервничать он начал сразу же, когда ему еще вчера утром сообщили, что на следующий день его примет Сталин.
Ничего хорошего от встречи с вождем он не ждал, прекрасно зная о той неприязни, с какой Сталин воспринимал любую информацию, которая шла вразрез с его собственным пониманием сложившейся ситуации.
Так оно и вышло, и ему надо благодарить Бога за то, что дальше угрозы Сталин не пошел. Пока не пошел…
И ему очень повезло, поскольку он так и не заговорил со Сталиным о полученной сегодня ночью шифровке о совещании у Гитлера.
Не поговорил он и том, о чем давно бы уже следовало поговорить с вождем.
Организационная структура Разведуправления, как убедился Голиков сразу же после своего прихода в это ведомство, давно устарела. Что же касается работы в условиях военного времени, то оно совершенно не соответствовало этому самому времени.
Материальная база военной разведки находилась в самом, что ни на есть, плачевном состоянии. У нее не было даже самолетов для заброски разведчиков в тыл противника.
Отсутствовали в нем и столь необходимые на войне отделы войсковой и диверсионной разведки.
Не было должного отношения к Управлению со стороны руководства Генштаба.
Да что там говорить, пронесло!
Сталин показал бы ему самолеты в тыл противника!
Конечно, в глубине души Голиков прекрасно понимал, что он просто струсил и даже не попытался защитить то дело, которое ему было поручено тем же Сталиным.
Но что он мог?
Спорить и доказывать?
Да, можно было!
Но только с тем, кто хотел спорить и слышать доказательства.
Сталин не хотел.
Да и чего бы он добился?
Отставки?
Это в лучшем случае.
Ладно, поморщился Голиков.
Хватит копаться в себе.
Что сделано, то сделано.
Он работает с тем, с кем работает, значит, впредь надо быть умнее и гибче. А бодаться с дубом… себе дороже…
А пока… ему надо как следует расслабиться.
Благо, что два проверенных товарища у него для этого мероприятия были.
Генерал взял телефонную трубку и приказал офицеру для поручений вызвать к нему начальника Отдела специальных заданий генерала Москвина и его заместителя полковника Громова.
Когда вызванные Голиковым офицеры появились в его кабинете, они не задали своему начальнику ни единого вопроса.
Да и зачем?
По хмурому лицу Голикова было видно, чем закончился его поход к Сталину.
Голиков жестом руки указал офицерам на свободные стулья, затем достал из тумбочки стола початую бутлку коньяка, три рюмки и тарелку с тонко нарезанным лимоном и шоколадными конфетами.
Он быстро разлили коньяк и, кивнув сидевшим напротив него офицерам, быстро выпил коньяк.
По губам известного своими эстетическими взглядами полковника Громов пробежала улыбка.
Голиков дождался, пока тот слегка пригубил коньяк, и сказал:
– Да, Сергей Николаевич, ты прав, сейчас не до смакования!
– Что, – поднял тот густые брови, – все так плохо, Филипп Иванович?
Голиков только махнул рукой.
В его кабинете не было прослушки, и тем не менее он не хотел обсуждать решения вождя даже с самыми проверенными людьми.
– Нам приказано, – почти дословно передал он приказ-пожеление Сталина, – работать, думать и не поддаваться на провокации…
С этими словам он налил себе еще коньяка и также залпом выпил его.
На этот раз Громов не улыбался.
Да и какие еще могли быть улыбки, когда все задуманное им и Москвиным и одобренное Голиковым летело к черту.
А задумано было много.
Громов прекрасно знал о том, что происходило в немецком Генеральном штабе, и нисколько не сомневался в том, что война начнется уже очень скоро.
Конечно, он никогда об этом никому не говорил, но, будучи классным аналитиком, никогда не верил в хитрость Сталина, ни в миролюбие Гитлера.
Более того, он с каждым днем все более убеждался, что Сталин и его окружение жили в каком-то иллюзорном мире, оторванном ими же самими от реальности.
Они не желалали даже слушать об истинной обстановке, если та противоречила собственным представлениям о том, или ином вопросе вождя.
Не испытывал он никакого почтения и к назначенному в июле 1940 года заместителем Начальника Генерального штаба РККА и начальником Главного разведывательного управления РККА Голикову.
Обладая практически всей информацией об агрессивных планах фашистского вермахта, Голиков сознательно передавал Сталину, который верил, что в ближайшие полгода Гитлер не нападет на СССР, разведывательные сводки с пометкой «дезинформация».
Бывший армейский командир и дилетант в разведке, он начал свою деятельность в разведке с того, что обрушился на кадровых работников.
Он упрекал их в том, что они слишком долго сидели за границей и обростали многочисленными связями с иностранцами.
Ему весьма тактично намекнули на то, что это и есть главнейшее условие глубины и надежности информации.
Однако тот только махнул рукой.
– Бросьте мне сказки рассказывать, – резко произнес он. – Настоящего большевика на мякине не проведешь!
И сейчас «настоящий большевик» был по сути дела единственным человеком в ГРУ, который искренне верил в «дружеские намерения Германии», а заключенный с ней пакт считал «продуктом диалектического гения товарища Сталина».
Именно с его подачи была разработана «баранья» теория, согласно которой Германия не рискнет напасть на СССР, не имея на складах миллионы бараньих полушубков.
Однако цены на шерсть в Европе не росли, и начальник ГРУ, несмотря на наличие проверенной информации о скором нападении Германии на СССР, продолжал нести на стол вождя утешительные сведения о том, что «подготовка германских армий на восточной границе есть маскировка перед высадкой фашистских войск в Англии».
Убежденный сталинист не мог даже и предположить, что в начале войны Сталин будет так испуган неожиданным поворотом событий, что начнет лихорадочно искать перемирия с фашистами на любых условиях.
Он прикажет Берии наладить контакт с Гитлером и предложит тому Прибалтику, Украину, Бессарабию, Буковину, Белоруссию и Карелию.
Отец всех народов будет готов отдать в рабство полстраны, лишь бы уцелел он сам и его режим.
Однако самонадеянный фюрер лишь презрительно поморщиться.
Да и зачем ему будет нужно это перемирие, если он и так возьмет это все в ближайшие месяцы?