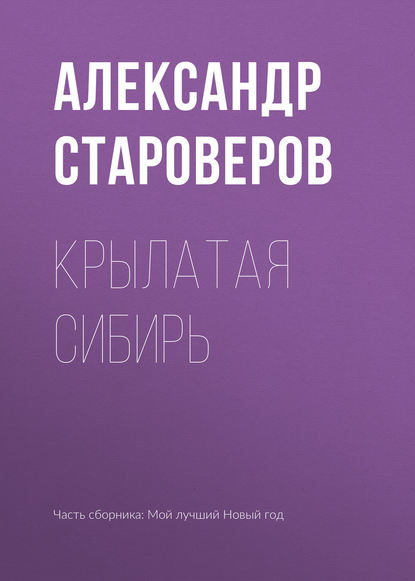- Рейтинг Литрес:4.5
- Рейтинг Livelib:3.8
Полная версия:
Александр Викторович Староверов Баблия. Книга о бабле и Боге
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Александр Викторович Староверов
Баблия. Книга о бабле и Боге
Все совпадения с действительностью в этой книге абсолютно случайны. Автор складывал буквы в слова, а слова в предложения, как бог на душу положит, без всякой задней мысли и ненамеренно. Все смыслы, догадки и подозрения, возникающие в голове у читателя, возникают исключительно в голове у читателя. Автор за это ответственности не несет.
С уважениемАлександр СтароверовВЗРОСЛАЯ СЧИТАЛКААнгелы в стакан налилиНебо полное ванили.Ангелы меня убилиИ спросили: или – или?Или ты умрешь как грешник,Или ты живешь как леший,Или вовсе не родился,Или сам себе приснился.Я приснился сам себе;Это лучше, чем нигде,Это лучше, чем никак;Лучше мрака лишь не мрак.И с тех пор себе я снюсь,Сам себя в себе боюсь;Счастлив тоже я в себе.И в ванильной полыньеПлаваю который год.Сам себе ученый кот,Сам себе моя семья,Сам себе и полынья.Вот такая вот считалка.Не людей – себя мне жалко;Мир закручен в бигуди,Кто не понял – выходи.Часть 1
Гоп!
1
Семья
Головная боль проснулась раньше Алика. Точнее, она и не засыпала вовсе. Это Алик сбежал от нее в спасительный, как он думал, сон. В спасительном сне, впрочем, ничего спасительного не было. Наоборот, всю ночь спасаться приходилось ему, причем от чего-то столь невообразимо гнусного и ужасного, что головная боль по сравнению с этим кошмаром казалась легким морским бризом. Не открывая глаз, Алик протяжно то ли замычал, то ли застонал и в конце этого стона довольно неожиданно вышел на ноту ля, так что получилось – ээмммммммммляяяя. «Мля», – более четко повторил он и открыл глаза. Не прошла… голова не прошла. Переход из таинственного зазеркалья сна в привычную мерзость ноябрьского утра дался ему непросто. Да и вправду сказать, наигрустнейшие это мгновения в жизни любого человека. Когда ночной кошмар, еще не до конца развеявшийся, лижет очумелый от сна мозг, а тебя уже, здрасьте пожалуйста, встречает новый, вполне реальный, дневной.
Алик был не то чтобы крепким парнем, но способы знал. Нужно срочно проснуться и покурить, вернее, покурить, а потом уж… Замысловатым, волнообразным движением своего сорокалетнего тела Алик швырнул себя с кровати, площадью похожей на кухню в хрущевке, прямо в тапочки, и тут же – к двери на лоджию. Все, что нужно для старта нового дня, уже было там: сигареты, дождь, холод и вид на Москву с высоты 32 этажа, который эту самую Москву очень красил. Влажный ноябрьский смог в сочетании с первой затяжкой привел Алика в чувство. Он посмотрел вниз и подумал, что на стареющих женщин и распухшие от денег города-нувориши лучше смотреть с высоты птичьего полета. Ах, если бы он стал птицей, тогда можно было бы никогда не спускаться на эту воистину грешную землю, а прыгать себе с пентхауса на пентхаус многочисленных элитно-розово-сиреневых башенок. Кормиться милостью их добрых, ну по крайней мере к птичкам добрых, обитателей и находить окружающий пейзаж прекрасным, а жизнь очаровательной. Но Алик не был птичкой. Трудно назвать птичкой стодвадцатикилограммового бугая под два метра ростом, с фигурой борца, который окончательно и бесповоротно нарушил спортивный режим лет этак двадцать назад. Лицо борец имел такое, что становилось ясно: он нарушал не только спортивный режим, но и как минимум административный, гражданский и налоговый кодексы.
В последнее время Алику перло. Поболтавшись в лихие девяностые в бушующем океане инвестиционно-обнального банковского бизнеса, отдышавшись в начале нулевых на скалистых девелоперско-телекоммуникационных островах, к концу десятилетия мощное гольфстрим-мейнстримовое течение московской деловой жизни выбросило его в одну небольшую, но очень уютную контору. Контора разрабатывала интересную тему частно-государственного партнерства, дружбы и любви. Любовь оказалась взаимной. И как всегда бывает при взаимной любви, оба объекта любви расцвели необычайно. Государство принуждало Грузию к миру, успешно боролось с последствиями мирового кризиса, в который раз уже штурмовало заветную высоту в $100 за баррель магической черной жижи, изобретало очередные каверзы для страдальца Ходорковского, поднимало пенсии и опускало зарвавшийся московский средний класс. Контора тоже не бедствовала. Она скупала подешевевшую московскую недвижимость, расширяла производство, открыла представительство на Кипре, весело гуляла на корпоративах в «Метрополе», кормила сотню маркетологов, пиарщиков и прочих обаятельных бездельников и, что самое удивительное, после всего этого праздника оставалась еще немалая куча бабла. Более того, в полный рост вставала проблема, куда эту кучу девать, да так, чтобы при смене направления гольфстрим-мейнстримового течения, что в российских широтах случается до обидного регулярно, тупо не сесть. Решением этой непростой задачи вот уже четвертый год и занимался в конторе Алик. Занимался настолько успешно, что к настоящему моменту забыл, какая у него зарплата. Зарплата по московским меркам была вполне ничего себе, но побочные доходы, возникающие в процессе головокружительных комбинаций, были столь огромны, что зарплата на их фоне бледнела, скукоживалась и практически исчезала.
Свой первый миллион он заработал к тридцати годам. Но это ничего не изменило. Разошелся миллион по квартирам, дачам, путешествиям, как будто и не было его вовсе. Тогда он заработал второй. Поменялось мало. Зарабатывая третий, он начал догадываться, что не в деньгах счастье. Правда, оставалась слабая надежда, что счастье в больших деньгах. Нет, конечно, как и у всякого нормального московского шустрилы, у него была Планка. Вот именно так: Планка с большой буквы. Но с годами Планка все больше стала напоминать линию и, что уж совсем обидно, – линию горизонта. Идти к ней можно: вот, казалось бы, она – рукой подать, но дойти… Впрочем, в последнее время, несмотря на то что контора, где он трудился, называлась совсем не «Газпромом», лично у него мечты начали сбываться. Появилась иллюзия, что Планка все-таки существует в природе и смелые, удачливые, крепкие духом парни вроде него, Алика, могут ее достигнуть. А после – послать к черту всю эту бессмысленную круговерть, непонятно почему называемую бизнесом, и весело сидеть на достигнутой Планке, беззаботно болтая ножками и поплевывая в сторону солнца, поэтично опускающегося непременно в Атлантический океан.
Стоя на лоджии и докуривая вторую подряд сигарету, он как раз думал о Планке. Мысли о ней помогали задушить и ночные кошмары, и утреннюю головную боль. В последнее время это превратилось в ритуал, в заутреннюю почти молитву. Он вставал, шел в трусах на лоджию, выкуривал две сигареты и думал о Планке. В голове весело танцевали цифры. Одна, довольно упитанная, – это то, что он наколбасил за прошлый месяц; другая, существенно больше первой, – это то, что, скорее всего, наколбасится за месяц текущий, третья, самая огромная, похожая на борца сумо, цифирища – это то, что было наколбашено за всю его нелегкую трудовую биографию. Цифры танцевали под музыку из кинофильма «Блеф» с Челентано в главной роли. Туру-ту, туру-ту, туру-ту, туру-ту… туру-ту… Пам! Пам!! Пам!!! Цифры кружились, сталкивались, набухали, умножались и складывались. И снова начинали танцевать: туру-ту, туру-ту, туру-ту, туру-ту, туру-ту… Пам! Пам!! Пам!!! Цифры становились выше ростом, они почти достигали Планки, а кое-где и перерастали ее. И тем не менее цифры танцевали. Туру-ту, туру-ту, туру-ту… И возникал в голове лихой вопрос: а не мала ли ему, Алику, Планка? Достойна ли она его? Может, стоит поднять Планочку-то? Пам!!! Пам!!!!! ПААААААМММ!!!!!!!!! И в этот момент приходил страх. Он понимал, что вечно фартить не может. И что за всякую удачу, за всякую пруху по закону вселенского равновесия потом обязательно получаешь соответствующую непруху. Он даже радовался мелким неприятностям: разбитая фара на «Мерседесе» жены, залетевшая некстати любовница, подхваченный неизвестно где грипп и тому подобные жизненные неурядицы приводили мир в равновесие. После них он считал себя в расчете с удачей и продолжал свое уверенное движение к заветной Планке. Но страх не уходил. А сейчас к нему примешивалась изрядная доля стыда. Алик считал себя рыночным человеком, homo marketus, голубая мечта Адама Смита буквально. Невидимая рука рынка в образе страха и жадности уверенно правила им. Но это для других она была невидимой. Он же видел эту холеную, стальную лапу слишком хорошо. И ему не нравилось, что он, весь такой свободный, образованный и тонко чувствующий человек, такой воздушный и одухотворенный, практически эльф, танцует по велению этой невидимой лапы позорную джигу, точно последний таджик, продающий помидоры за углом.
«Жадный ублюдок», – сказал он вслух, стряхивая пепел на Москву, и ощутимо ударил себя ладонью по щеке. Эта привычка появилась у него лет десять назад, одновременно с первым миллионом. В моменты наивысшего омерзения к себе, после трудных переговоров с малоприятными людьми, когда приходилось буквально насиловать себя, исполняя особо замысловатые па великой рыночной джиги, он сам себе отвешивал оплеухи. Боль в щеке помогала ощутить себя человеком, простить себя и позволить и дальше, еще проникновеннее, исполнять завораживающий market dance.
«К взлету готов», – подумал Алик. Утренний ритуал был почти закончен. День начался.
– Накурил-то, накурил, – послышался из-за закрытой двери голос жены. – Все куришь и куришь, куришь и куришь. Дети задыхаются, жить невозможно, куришь, и куришь, и куришь, о себе только думаешь и куришь, и куришь.
По мере произнесения этого спича голос жены становился все выше и выше. Последнее «куришь» было произнесено так высоко и с таким эмоциональным накалом, что Монтсеррат Кабалье застрелилась бы от зависти. Алику снова захотелось курить. Вместо этого он молча открыл дверь, отодвинул жену и пошел умываться. Навстречу ему выбежало нечто о четырех руках, ногах, нечто двухголовое, златовласо-голубоглазое, розовое, брызгающееся слюнями, радостью и оптимизмом. Это были долгожданные двухлетние сыновья-близнецы Ленька и Борька, они же – Лёлик и Болек.
– А папка, папка, папулечка, папулёшечка, а Лёлик, Лелька, Болька, Боляка, гуять, хочим, даться, аааа, ууу, пупссс, – затараторили они одновременно.
– Куришь, и куришь, и куришь, и куришь, и куришь, и куришь… – продолжала свою арию жена.
Алик сгреб близнецов, повалился на необъятное ложе и начал кувыркаться с ними, щекотать, покусывать, бороться. Он купался в их детском счастье.
– А Лёлька хуиган, а… а… а… Боляка бандит, мы бяки буки, гуять, папка, папулёшка!!! – Фонтан радости, бьющий из близнецов, смывал все страхи, деньги, планки и цифры, еще минуту назад терзавшие Алика. «Хорошо, – думал он, – просто и хорошо, и ничего больше не нужно».
– А Лёлик матос, а Болька генеал, а папка машал гуять, балаться, паф-паф, стеать паф.
– Крышь, крышь, крыши, крышь, кршь, ршшшь, дыыышшь.
Шипящие звуки возвращали в реальность, лишали воздуха, отнимали счастье.
– Куришь и куришь, куришь и куришь, а потом на детей дышишь, и куришь и дышишь, и дышишь и куришь. Наташа, заберите детей. Лелек, Болек, пойдемте, здесь фу, бяка. Вот ты куришь и не думаешь, дышишь и куришь, и дышишь и не думаешь. Наташа, быстрей, где вы там ходите!
– Фуууу, вонючааа, – забавно сморщили рожицы близнецы.
– Дети, а давайте прочитаем про Бармалея, – лицемерно промурлыкала вошедшая няня, ловко посадила мальчишек на руки и вынесла из спальни.
– Думаешь только о себе и куришь, насрать тебе на всех, и дышишь, и куришь на больных детей.
Жена явно не могла остановиться, назревал традиционный утренний скандальчик.
– Уйди, – прохрипел Алик и посмотрел на жену, как волк на останки только что растерзанного ягненка.
Взгляд подействовал, жена попятилась к двери и вышла. Но из коридора еще некоторое время доносилось затухающее: «Куришь и куришь… куришь… дышишь… кур… дыш… шиш…» Он подождал, пока звуки стихнут, и тоже вышел. Слева находилась комната дочки Сашки. Ей недавно исполнилось шестнадцать, и она мужественно боролась с переходным возрастом. «Зайти – не зайти?» – попробовал угадать Алик. В последнее время общение с Сашкой напоминало рулетку. То задушевные разговоры и ощущение друга рядом, какого и не было у него никогда, то такой высоковольтный провод, что не влезай – убьет, поджарит и снова убьет.
«У Сашки каникулы, она выспалась, настроение хорошее, – попробовал рассуждать он логически. – Зайду». Увидев дочку, сразу понял, что не угадал. Зеро, все ставки уходят в казино. Но отступать уже было поздно.
– Как чувство самия? – спросил он преувеличенно бодро.
– Нормально.
– Чем занимаешься?
– Живу.
– Как живешь-то?
– Нормально.
– Давай жить вместе.
– Отстань.
– А чего так грубо, Сань? Чего я тебе плохого сделал?
– Ничего, отстань.
– Что, моча в голову ударила, да?
– Да, моча, месячные, годовые, столетние, переходный возраст, плохая экология. Все, доволен? Я все перечислила? Отстань, уйди, и вообще, стучаться надо, когда входишь.
– Стучаться, говоришь? Ща я тебе постучу…
Алика трясло. День начинался не здорово. Близнецов отобрали. Жена достала. А тут еще дочка… Он догадывался, что лучше всего молча выйти, и тогда Сашка вечером сама прибежит, будет извиняться, ластиться, говорить умные слова про переходный возраст и всячески изображать умницу-красавицу, пай-девочку-гордость-отца, которой она, в сущности, и была. Понимал все это Алик хорошо, но… но сделать уже ничего не мог.
– Стучаться, значит?.. – повторил он.
Подошел к столу, за которым дочь обычно делала уроки. И постучался… Ну не то чтобы постучался, а так хрястнул по несчастной деревяшке, что столешница разломилась на две части.
– Так стучаться?
Хрясь!
– А может быть, так?
Хрясь!
– Нет, наверное, вот так!
Хрясь! Хрясь! Хрясь!!!
Очнулся он быстро. Если бы были у стола рожки, то остались бы от него рожки да ножки. А так только ножки и остались. Дочка, свернувшись калачиком, лежала на кровати, в ее глазах застыл ужас. В углу комнаты стояла неизвестно откуда взявшаяся жена. Она размахивала руками и широко открывала рот. Звука не было. Алик растерянно топтался около изуродованного стола.
«Что со мной? Это что со мной? Зачем это я?» – вопросов было много. Ответы отсутствовали.
– Ууууука… Уууууука…
«Откуда в Москве пароходы и почему они так противно гудят?» – подумал он.
– Суууукааа, твааааарь, сука, ты что делаешь? – Звук вернулся, и Алик понял, что сейчас начнется не просто скандал, а скандалище с большой буквы «С». Скандал месяца как минимум. Он сделал безнадежную попытку скрыться от надвигающегося торнадо, выскочил из комнаты, заперся в ванной, включил воду и замер.
– Открой, сука! Открой, тварь, кому сказала! Испугался, заперся, нагадил и испугался!!! Ты же трус, трус, только дома можешь кулаками махать. Открой, тварь! – Жена пинала ногами запертую дверь.
Алик яростно тер щеткой прокуренные зубы.
– Ты же добрый, только когда виски нажрешься. На работе-то, небось, жопу всем лижешь, а здесь, сука, издеваешься. Открой, скотина жирная!
«А вот это она зря сказала», – подумал Алик, полоская рот. Сил держаться больше не осталось. Он набрал воду в стакан, резко открыл дверь и тут же выплеснул воду в лицо жене.
– Охладись, дура!
– Ага, справился. Лей, бей. Ты же сильный, ты же крутой, ты справишься! А я тебя не боюсь, потому что ты охреневшее ничтожество! Отожрался, бухаешь, спишь до десяти, хорошо живешь, сука!
– А ты как живешь? – взорвался он. – Вот ты как живешь?! Няньки, мамки, бабки, гувернантки-уборщицы, массажи, блядь, СПА, на хуй? Коза неблагодарная. Ты думаешь, булки на деревьях растут? Закрой свое поганое хавело и не смей тявкать на меня!
– Ну да, деньги. Будешь попрекать меня деньгами. Совсем двинулся на своих деньгах. Ты же кормилец наш, благодетель!.. Спасибо тебе, отец родной! – Жена упала на колени и стала биться головой о паркет. – Спасибо тебе, сволочь, что детей голодными не оставил! За все тебе, сука, спасибо!!!
– Ты конченая, понимаешь? Ты просто конченая. Быдлота вонючая!
– Конечно, ну конечно, это вы у нас великие. Вы, сука, ученые, доценты с кандидатами, на Патриарших родились, спецшколы закончили, а мы так, рабы из рабочей слободки. Что же ты женился-то на таком быдле? Что же ты детей-то от быдла родил? Думать, сука, надо было!
– Надо было, вот как увидел твою хитрожопую маманю и папашу-алконавта, так и надо было думать!
«Зря я это сказал», – тут же спохватился Алик. Поздно. Жена с грацией очковой кобры вскочила с колен и вцепилась ему в лицо.
– ААААА!!!!!!! Убью на хер!!!!!!! Не трожь мою семью, сука!!!! Ууубьюююю!!! ААААА!!!!
Чувствительные удары сыпались со всех сторон. Жена у Алика отличалась огненным темпераментом, за что, собственно, и была возлюблена им в далекой уже молодости. Могла и покалечить. Выход оставался один, и Алик им воспользовался. Он оторвал от себя взбесившуюся бабу, перегнул ее через колено и отвесил несколько шлепков по заднице. Жена как-то сразу обмякла, уменьшилась в размерах и горько, по-детски, заплакала. Ему опять стало стыдно.
«Я же люблю ее – или любил? Нет, все-таки люблю. Почему же так все получается?» – подумал Алик. Он посмотрел на рыдающую жену и почувствовал жалость к ней, к себе, ко всему этому гребаному миру, который так по-дурацки устроен.
«А все из-за баб, потому что они дуры, и она дура, сама во всем виновата», – пришел он к неожиданному выводу и повернулся, чтобы уйти. Перед ним стояла дочь.
– Я тебе этого никогда не прощу, – сказала Сашка тихо.
– Но ты же видела, она сама…
– Не прощу. Никогда!
Скандал месяца был закончен.
Как он оказался на улице, Алик помнил смутно. Но все вроде бы было на месте: портфель, костюм, и даже хоть и криво, а все же повязанный, в тон рубашке, галстук.
«Корпоративные инстинкты, чтоб их… – грустно подумал он. – Вот так голову отрубят, а тушка в костюме еще час будет бегать, пожимать чьи-то руки и показывать очередную бессмысленную презентацию в Power Point». Привычный автосарказм облегчения не приносил. В голове что-то ритмично пульсировало.
«Черт, опять таблетки забыл выпить», – совсем расстроился Алик. Полгода назад врач строго предупредил, что нервы, сигареты, алкоголь, лишний вес и повышенное давление – это его промежуточные станции на пути к последнему приюту. А тормоз только один – маленькие белые таблеточки, регулярно проглатываемые по утрам. После того, что произошло, вернуться домой к спасительным пилюлям было немыслимо. Алик прикурил третью за утро сигарету и побрел к машине. Он любил деньги, а деньги любили тишину и одиночество. Автомобиль приходилось водить самому. Жена, партнеры, начальство – все настаивали, чтобы он нанял шофера. Резонно полагая, что забота их небескорыстна, Алик отбрехивался от навязываемого стукача под предлогом посконного демократизма своей натуры. Несмотря на демократизм, ездил на «БМВ Х6». Конечно, такую машину лучше ставить в гараж, что он и старался делать. Но когда недалеко от подъезда было место… Лень, как правило, побеждала, и машина оставалась ночевать на улице.
«Территория у нас огороженная, дом элитный, люди приличные, ничего не случится», – успокаивал себя Алик. Как раз вчера с одним таким приличным старичком из соседнего подъезда у него случился конфликт.
Он вернулся домой поздно и уже почти заехал в циклопических размеров подземный гараж, когда увидел неочевидное место для парковки совсем рядом с входом в дом. Неочевидным место делала его экстремально малая площадь. Но припарковаться удалось почти идеально. Только два колеса чуть-чуть заехали на невысокий бордюр, за которым начинался чахлый, желто-серого цвета, ноябрьский газон. На газоне выгуливал немецкую овчарку крепкий старик лет семидесяти в военном бушлате. По слухам, он был генералом, бывшим начальником чего-то там в центральном аппарате Минобороны. Осень и зиму вояка обычно проводил на своей вилле в Португалии. Но в этом году отчалить в теплые края ему не удалось из-за подписки о невыезде. Подписку взяли назойливые следователи по очередному совершенно секретному делу о пропаже чего-то совершенно секретного, в размере приблизительно двух миллиардов рублей.
– Здравствуйте, Петр Семенович, – вежливо поздоровался Алик.
– И тебе не хворать, урод.
– ???????????????????????
– Тебе в детстве говорили, что машины парковать на газонах нельзя?
От генерала несло перегаром.
– В детстве у меня машины не было. В детстве мне говорили, что по газонам ходить нельзя. А вы об этом слыхали, Петр Семенович?
– Ах ты, козел! – разъярился генерал. – Наворовали, суки, продали Россию, понакупили тачек, на газоны ставите, гады. Да я тебя…
«И вот это мне говорит старый тупой ворюга, – подумал Алик. – Это он мне говорит?»
– Слушай сюда, старый засранец, – сказал он возмущенно, – попутал ты сильно. Это ты, дерьмо совковое, родину нашу сначала просрал, а потом поимел три раза. А я в это время книжки читал да ума набирался. Был бы ты помоложе, я б тебе рыло начистил с огромным удовольствием. Но в книжках написано, что стариков бить нельзя, даже таких, как ты. Так что живи, бить не буду. Тебя жизнь без меня побьет.
Закончив говорить, он понял, что победил никчемного старикана безоговорочным моральным нокаутом, повернулся, вошел в подъезд и тут же забыл о неприятном инциденте.
Сейчас же, подойдя к машине, Алик понял, что зря он так быстро забыл вчерашнюю стычку. Нельзя, ой нельзя в нашей удивительной стране ничего забывать. Потому что это там где-то, у теплых морей, живут веселые, вспыльчивые, но быстро отходчивые люди. В нашем же северном климате такие не водятся. Другие у нас люди обитают, с тяжелым и недобрым взглядом, с длинной, мутной и обидчивой памятью, с камнем за пазухой и заточкой в голенище. «Никто не забыт, ничто не забыто» – это ведь не только про войну, это вообще про все. И горе тому, кто забудет, горе…
Ну горе не горе, а колеса у «БМВ» были изрезаны в клочья. Вот, казалось бы, ерунда какая, ну порезал старый дурак колеса. Ну и что? Сам виноват, у человека неприятности, человека посадить могут, нечего было нарываться. «Извините» надо было сказать и пройти мимо. А какой уж там человек: вор или не вор, совок или быдло – не его это, Алика, дело. В семьдесят лет не до воспитания уже… Вот так бы подумал он в любое другое утро, но не в это. В это утро удача играла не на его стороне. Головная боль, безобразная сцена с женой, подскочившее давление, все это можно пережить. Но колеса? Изрезанные старым уродом колеса?! Это уже слишком. От выброса адреналина закружилась голова. В горле шевельнулся колючий, ледяной ком. В глазах потемнело.
«Убью, – подумал он. – Избавлю свет божий от мрази, точно убью. Нет, убивать нельзя, сяду. Тогда посажу, дам денег ментам и посажу. Это даже лучше, сдохнет, падла, в Бутырке на шконке, много ли ему надо, через неделю сдохнет, кровью умываться будет…»
Вид воображаемого старикана, мучительно умирающего в переполненной камере, немного успокоил Алика. Он даже начал мыслить практически: «Лучше всего позвонить Валерке-безопаснику, он всех ментов в округе знает – дам десятку, он до жопы счастлив будет, а мерзкий старикашка уже завтра станет баланду хлебать. Никто за него не впишется, он конченый, и так под подпиской ходит. А мое дело правое, камеры на подъезде небось все записали, напишу заяву, простимулирую десяткой, и завтра же справедливость восторжествует… Нет, лучше пятерку дам, справедливость бесценна, конечно, но она не должна быть дорогой, она должна быть доступной широким слоям населения. В этом и есть высшая справедливость нашей великой русской справедливости. Пятерка, пожалуй, прокатит. Ну, Валерка будет счастлив не до жопы, а всего лишь по колено. Ну и что? Результат-то тот же. Сдохнет мерзкий старикан, и сдохнет правильно. По закону сдохнет. По государственному, солидно. В русле последних тенденций копыта откинет, падла».
Ледяной колючий комок в горле начал теплеть. Его края уже не были такими колючими, они таяли, оплывали. Комок превратился в горячий масленый шар. Он спустился из горла в желудок, а потом еще ниже, и еще… Вязкое горячее масло разлилось по телу, оно смазывало израненное нутро, заглушало обиды, давало силы. Стало хорошо.
И тут, как назло, включилась рефлексия. Вот имелась у Алика крайне дурная в наши непростые времена привычка оценивать себя как бы со стороны. Уж как он боролся с ней, душил, заливал виски, бил себя по щекам – ничего не помогало. Паскудная привычка вылезала в самый неподходящий момент.
«Это чего же, – подумал он. – Я человека грохнуть за колеса готов? Да еще пятерку сверху накинуть? Он же человек, хоть и тварь, а божья тварь. А я тогда кто? Да я хуже него в тысячу раз. Сбрендил я совсем. Болен я. Господи, помоги мне!»