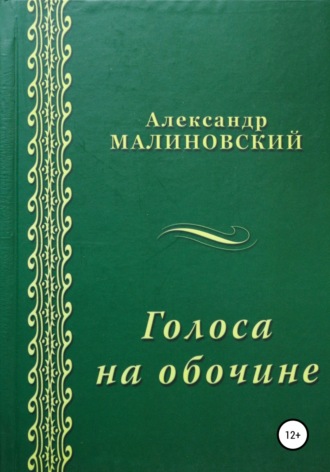
Александр Станиславович Малиновский
Голоса на обочине
Чилижные веники
Овдовела я в середине девяностых. Как всё случилось, спрашиваешь?
У мужа Мити ни работы, ни пенсии нет. Что-то надо делать?
Вспомнил он давнее семейное ремесло. Родители его, кроме работы в рыбацкой артели, жали и вязали чилижные веники. Продавали в городе на разных предприятиях. Но то было раньше. А сейчас? И заводов-то тех, которые работают, – раз-два и обчёлся… На боку всё. Не до веников.
Съездил он туда, сюда. На две машины веников договорился.
Мол, купят… Тридцать рублей за веник… деньги!..
Ну вот.
Всё лето мы жали чилигу за Самаркой. Напротив Песков. Чилига – ой да ну! Её ж там никто не трогал лет десять…
Люблю я работать на природе, с детства люблю. Это от родителей моих. Особенно, конечно, летом люблю. Река и небо летом! Разве это не чудо?!
Я часто мучаюсь, что не умею сказать то, что чувствую. Митя-то, мужик, много не говорит. А я и хочу сказать, и нету у меня нужных слов…
После избы, двора, вечных забот: то огород, то то, то сё…
И вдруг: река! Мне всегда казалось, что не будь рек, не было бы людей. Люди часто забывают о реках, о родниках. А для меня едино всё.
И небо! Как будто само по себе свободное от всего! И в то же время оно – всему основа! Самое главное – оно, небо высокое! И ты под ним становишься больше: оно тебя поднимает.
Я Мите сказала разок об этом. Он назвал меня чудачкой. Я и не стала больше говорить…
Так вот про веники.
Работалось в охотку.
Договорился-то Митя на две, а взяли одну машину. В сентябре отвёз он машину веников. А вторую – ни в какую… Пообещали взять весной только.
Куда деваться, весной так весной…
Остались наши веники зимовать в лесу за Самаркой. И в голову мы не брали, что с ними что-нибудь случиться может. Кому они нужны?
Приходим весной, ещё по льду через Самарку, а веников и нет.
Куча золы вместо них.
Кому же это так они мешали? Неужто не видно: труд какой?
И не может быть, чтоб ребятишки похулиганили. Нету их, ребятишек, теперь в лесу. В селе-то нет.
Жалковали мы с Митей сильно.
А тут Клавдия, старшая сестра Петянихи, говорит мне:
– Есть у меня особая молитвочка. Дам тебе её. Читай на ночь месяц, каждый день. Виновник и объявится.
– А как он объявится? – удивляюсь.
– Сама увидишь, – отвечает.
Чудно вроде. А послушалась я.
Начала читать каждый день молитву эту. Интересно. Больше месяца прошло. Я и верить перестала. И читаю уж через раз, когда спохвачусь только.
И тут случилось!
Явился ни с того ни с чего дальний, седьмая вода на киселе, родственник Мити – сын Коли Комулятора – Степан. Они одногодки с моим.
Я во дворе была. Митя возился в мастерской своей. Как стоял посредине двора, так и сказал, разведя руками, Степан-то:
– Ты того, Настя, прости меня.
– Чего это, – спрашиваю, – вдруг?
Невдомёк мне было, о чём он.
– Чего-чего? Уж догадалась, чай, давно! – громко так вскричал. Его будто изнутри закорёжило.
– Стёпа, скажи, зачем пришёл-то? – спрашиваю. А сама думаю: перепил, что ли, вчера? Сто лет у нас не был.
– Я это, того… – бормочет втихую. А потом как брякнет на весь двор: – Ну, я! Я поджёг эти ваши веники! Будь они прокляты! От зависти всё! Сорвался…
– А, батюшки! – я и рот распахнула. Обомлела. Онемела. – Как жеть, свой же? Родственники…
– Замучился я с собой. Прости!
Митя мой слышал всё из мастерской-то. Вышел он. В руки ему черенок от лопаты попался. Как хлобыстнёт, эдак как-то быстро черенком по голове Степана. Тот и брыкнулся на землю. Сам не ожидал Митя такого от себя. Стоим оба растерянные.
И началось тут.
То да сё…
У Степана сотрясение мозга, да какое-то особенное. Лежит в больнице в райцентре.
А мово Митю под суд было отдавать хотели. Но Степан бумагу подписал, что прощает его. Опять же – родственник, Степан-то. Учли и это.
Степан лечится. А Митя запил. Я истерзалась вся. Никогда такого не было. Напасть словно какая. Хужей нет пьющего в доме. Один лежит в больнице, а другой пьёт напропалую.
А тут из города один мужик привёз водку. Дёшево быстренько с машины продал. И уехал. Не из того спирта водка оказалась. Четверо померли. Мой Митя первый.
Всё порушилось у меня без Мити. Слов нет. И хотя дочь уж взрослая, замужем, а жизнь моя никакой стала.
Бесповоротно всё пропало.
Мужа похоронила, а Степан – вон он, живёхонький. Возненавидела я его. Всё моё поломал он.
…Через год, как у Степана жена умерла, пришёл он ко мне свататься. Вот что удумал!
Я, говорит, всю жизнь тебя люблю. Просто Минька опередил меня после армии. А тут я оказался свидетелем при вашей росписи. Куда мне деваться? Тогда первый раз не выдержал.
Я и вспомнила, как он напился на свадьбе нашей. В дым!
А потом вывалился из-за стола и в баньке у родителей выстрелил себе из ружья в висок. Промашка вышла. Шрам только на всю жизнь оставил. Говорили тогда: «Чего только по пьяни не бывает».
Забылось всё как-то. Свадьба пела и плясала!
А потом денёчки, года заплясали-замелькали! Как листочки на кухне от календаря.
– Неужто, правда? – говорю. – До седых волос не забыл.
– Нет, – говорит. – Наоборот даже. Терзало меня всё это!
Я Митю уважал даже. Но своя-то жизнь? Я на отшибе оказался…
– А Маруся твоя? А дети?
– А что они? Дал зарок забыть тебя. И пошло потом механически всё. Я слово держу своё… Женился, нарожали… Но жизнь-то моя! Как снятое молоко она! А теперь? Марьи нет, Мити нет. Светлая им память. Неплохими людьми были… Дети твои и мои взрослые. И те, и эти живут отдельно. Мы с тобой – как вольные студенты. Заново можно начать! Решайся!
Гляжу на него и диву даюсь. Как так можно говорить, думать даже об этом?..
– Что ты, говорю, Степан? Ошелапутил? У нас детям по двадцать лет. Стыдно!..
– Одно другому не мешает, – говорит. – У них своя теперь жизнь, у нас своя будет. Может, мы и родим ещё ребёночка, не старые ведь.
Меня от такого его разговора аж в жар бросило. Слов не стало.
Столько изуродовано, а он про любовь свою какую-то!
– Уходи! – говорю. – С глаз долой уходи! Со своей любовью.
Тороплюсь так говорить, а сама глаза его вижу. Печальные. Не злые. Виноватые глаза…
А всё равно остановиться не могу:
– Над нами тут смеяться будут. Никчёмная твоя любовь. Никому от неё добра нет. И не будет! В Воронеж зовёшь, уехать отсюда. Не по годам нашим это.
Он грустно так смотрит на меня… И ничего не говорит…
А я себя виноватой начинаю чувствовать. За что мне всё это, за какие грехи? Не понять мне… Успокоюсь… Не виноватая я!
…А тут ударило в голову: я ему жизнь искалечила. Из-за меня в его жизни многого не доставало.
Он потом, когда ещё раз приходил, всё также грустно смотрел на меня. И слушал молча…
А мне уж, чувствую, жалко его стало.
…Боялась: ещё раз придёт, не выдержу его молчания.
Не пришёл. Продал он всё и уехал, не попрощавшись. В Воронеж к сыну.
И зачем уехал?
Говорят, будто не хуже там, в Воронеже. Не как у нас, теплее…
Но ведь чужая сторона?
…А может, нашёл там сын ему какую?.. Вот бы…
Так легче мне думать.
Больше недели без лёгкого
Не любитель я по врачам бегать. А тут вышел на пенсию. Не прошло и года, и… как мешок развязался: одна болячка за другой. То это, то другое… Раньше не было такого…
Подался к участковому терапевту.
– Голубчик, – говорит он мне, – а что же вы флюорографию два года уже не проходили? Непорядок!
Дал направление мне.
Пошёл делать флюорографию. Делов-то, думаю… Вон Сергеичу, он на год раньше меня ушёл на пенсию, так ему шланг глотать приписали и ещё кое-что такое, о чём говорить не хочется. Гемоглобин понизился… Лицо стало серое…
Пришёл. Сделали снимок.
– Сегодня, – говорят, – после 14:00 в карманчике на стене в коридоре будут результаты. А лучше приходите завтра.
«Не пожар, – думаю, – по два раза бегать на день в поликлинику».
Явился на другой день, а в кармашке-то на стенке на мою букву «к» бумажки про меня и нет.
«Вот те на, – думаю, – то заверяют, что после 14:00 будет готово всё, а то «после дождичка в четверг»?
Захожу в кабинет, объясняю, как умею.
Врач говорит:
– Сейчас выйдет к вам медсестра, подождите в коридоре.
Жду.
Нескоро медсестра вышла, но я не возмущаюсь. Неудобно. Кто я? Пенсионер всего лишь! Всем кажется, времени у таких как я – прорва! А его совсем не хватает, времени-то. Поскольку все дела начали делаться медленнее, чем раньше, раза в три. И сам не пойму, почему это так… Ну ладно, это другая тема…
Выходит молоденькая такая медсестра, востроглазенькая.
Смышлёная на вид-то. И говорит мне:
– И давно так у вас?
– Как? – спрашиваю.
– Ну, правое лёгкое ваше – сплошное тёмное пятно.
– Нет, – говорю, – в первый раз слышу об этом.
А сам заволновался. Сплошное тёмное пятно! «Ничего себе, – думаю, – вышел на пенсию, дождался заслуженного отдыха?!»
Чувствую, вспотел аж.
Молчим оба.
– Вы присядьте, – говорит. – А то у вас лицо изменилось.
– Да постою я, – говорю. А сам в какой-то невесомости трепыхаюсь. Как подвешенный за одно лёгкое.
И тут она задала такой вопрос, который враз всё поставил на своё место:
– А левое лёгкое когда у вас вырезали? – запросто так с моей грудной клеткой обращается.
Опустился я из невесомости на твёрдое. Враз понял, что меня с кем-то перепутали. Даже юмор у меня прорезался. Говорю:
– Девочка моя, мне никогда операций на лёгком не делали. И напивался я, чтоб не помнить себя, только два раза. Когда в училище ещё был. Не могли вырезать, чтоб я не знал, не в памяти находился.
Она плечиками так значительно пожимает. Личико серьёзное. Я ей:
– А давайте посмотрим! Шрамы должны остаться.
Нашёлся. Тоже мне.
И начал задирать рубаху.
– Ясненько, ясненько с вами, – говорит. – Подождите. Я скоро вернусь.
И ушла в кабинет с поджатыми губками.
Вышла ко мне сестра уже возрастом постарше.
– Знаете, – говорит, – можете прийти дня через два? Мы разберёмся с вами.
– Чего разбираться-то? – спрашиваю. – Вот он я! Вот мои лёгкие. Дышу нормально. Сделайте ещё раз снимок. И все дела!
Задумалась сестричка:
– Нет, у нас свой порядок, – говорит внушительно так, не грубо. Наоборот, как-то ласково даже. Будто я в психбольнице и меня как пациента давно уже здесь все знают, свой я у них.
Выждал я эти два дня. Спокойно выждал. А что волноваться-то? Лёгкие на месте у меня! Вот, правда, затемнение в одном, но это же наверняка ошибка! Они же ошиблись с другим лёгким: его мне не вырезали. А с другой стороны, думаю: вырезать-то не вырезали, но пятно-то могло и появиться. Мало ли таких случаев было…
Пришёл снова к кабинету флюорографии.
Долго ко мне не выходили.
Потом всё же вышла. Та, которая постарше и позадумчивее.
И говорит прямо с ходу, не дав мне поздоровкаться:
– Знаете, у нас батарею отопления прорвало. Бумаги затопило. Приходите через неделю. Мы тогда разберёмся.
Опять это «разберёмся».
И смотрит в упор. Глаза бесстыжие. Видно, что придумала с батареей.
Я направился в кабинет.
– Вы куда?
– К врачу, сколько можно?..
– Он на пятиминутке.
– Правда, что ли? – чувствую, начинаю заводиться. – А батарея на месте? – интересуюсь.
– Какая?
– Как какая? Та, что лопнула! – говорю.
– А что, проверить хотите? Тоже, инспектор!
– Не инспектор я, а сантехником работал, – отвечаю. Но вижу: не прорваться.
Махнул я рукой. И вышел.
Как хорошо оказаться на улице, на свежем воздухе! Где нет монотонных белых халатов. Где всё пестрит жизнью!..
Прожил я, если верить врачам, ещё неделю без одного лёгкого. Ничего, выдержали нервишки.
Прибыл в больничку. Вышел ко мне уже сам доктор.
Протягивает мне бумажку:
– Извините, товарищ Коровин, неувязка получилась. Перепутали тут малость. С лёгкими у вас всё нормально.
А мне и говорить-то ничего не хочется. Молча сунул бумажку в карман – и на улицу из этой клетки.
Там посмотрел. И ещё раз подивился. Уже написанному.
Они дали мне ту бумажку, в которой было отмечено, что у меня одного лёгкого нет, а в другом – затемнение. То есть ту же самую. Только всё прежнее в ней перечёркнуто жирно крест-накрест. И штамп красуется с угла на угол: «Изменений в лёгких нет». Не удосужились даже переписать.
Стою и думаю: «Неужели они не понимают, что выдали свидетельство своей такой неряшливой работы? И не стыдно? И не боятся выглядеть такими?»
Это свидетельство о глупости я с усмешкой вклеил в свою медицинскую карту.
Как положено, так и сделал!
А вообще-то ей место в соответствующем музее…
Огурчики с пупырышками
На свою дачку я обычно добираюсь по дороге вдоль Волги.
В свой сезон здесь на обочине пожилые люди торгуют кто помидорчиками, кто огурчиками, земляникой, малиной. Песчаная почва, обилие света, справа дыхание Волги, слева – огромный массив озёр!
Всё это способствует тому, что урожай тутошние дачники начинают собирать на полторы-две недели раньше, чем в удалении от Волги.
Иногда я останавливаюсь, чтобы что-нибудь прикупить. Вот и сегодня подошёл к покрытому рыжеватой, выцветшей клеёнкой столу.
Здесь – то, что мне надо: молоденькие с пупырышками огурчики. Старик за столом поднял щетинистое с розовыми нездоровыми пятнами лицо. Я невольно сжался.
Передо мной был Иван Горохов.
«Сколько ж мы не виделись, – мелькнуло в голове. – Лет тридцать? Не менее…»
– Иван, – невольно вырвалось у меня. – Ты?
Иван был выпивши. И не слегка. Глянув на меня пустыми глазами, спросил:
– Сколько надо?
И потянулся к огурцам.
– Иван! – вновь повторил я, не веря ещё, что вижу перед собой человека, с которым прожил бок о бок когда-то три года в рабочем общежитии. Потом работал с ним в одном цехе на заводе. Я – слесарем. Он – токарем, да каким. Лет в тридцать Горох стал орденоносцем.
Он привстал над столом. Но тут же опустился вновь на толстенный обрезок доски, покоившийся на двух чурбаках. Да не совсем удачно опустился. Повело его в сторону. Наконец, сбалансировав, оказался над столом. Сел. Не надеясь на ноги.
– Сашка! Ты! Эх, ты! Как так? Вот те на! – он ещё что-то произносил в этом духе. Но, будто протрезвев, сказал в следующий момент довольно внятно: – Рад, что ты жив! Это для таких как мы с тобой сейчас редкость! Хотя какая это жизнь? Может, у тебя другая, а у меня она – торговая… Сам видишь. Я торгаш! Продаю вот эти: пур… пыр… пупырчики.
Он попытался встать. Это ему не удалось.
– Тебе сколько махнуть? Три кило? Сейчас. Хоть полпуда… бесплатно… только скажи!
– Потом, Иван! Потом. Давай поговорим.
– А что говорить? – он облокотился обеими руками о стол.
И принял подобие вертикального положения. Произнёс тускло: – Я слышал, что ты тут где-то приобрёл дачку. А где? Думаю, увижу. А нет и нет…
– Давно тут? – спрашиваю.
– Дачка-то давно. А я второй сезон. Привезли меня сюда сын да моя. Она и сейчас как самолёт. Здесь тебе, говорят, санаторий будет. Волга, воздух! И при деле! Только торгуй! А мы на грядках будем все. Лихо? У меня орден Ленина. Лучший токарь в объединении! И торгуй огурцами? А? Зигзаг удачи! – он говорил громко. Две молодки, томящиеся рядом с банками солений, начали смотреть в нашу сторону. – А по-другому? Только эта дачка и спасает нас. Сын без работы. Моя пенсия как у студента стипендия.
– Что ж? – соглашаюсь. – Жить-то надо! У других и этого нет.
– Надо! – воскликнул. – Но разве так, – он, кажется, протрезвел. Встал над столом. Ткнул меня пальцем в грудь: – Скажи, что мужику важно в жизни?
– Смотря в каком возрасте, – отвечаю, догадываясь, о чём он. Перекрывая хихиканье оживившихся молодок, Иван произносит, глядя на меня уже знакомым мне твёрдым взглядом:
– Мужику серьёзное дело необходимо. В любое время. Крепкое дело в жизни! На этом жизнь его держится. И страна держится! Тебе ли это говорить?
– И интерес к нему таких вот, – он мотнул головой в сторону, – молодок будет тогда. А так что?
Я слушаю молча. И радуюсь за Ивана. Начинаю его узнавать таким, каким он был раньше. Напористым.
– Не будет этого у рабочего человека – превратимся все скопом в пыль.
Он замолчал, нахохлившись.
Глядя на меня из-под мохнатых бровей, сказал:
– Ты не смотри на меня так! Сегодня сороковины. С утра помянул.
– Кто-нибудь из родственников? – спросил я.
– Родственников, – повторил, как эхо, Иван, – ты помнишь Лёшку Каткова?
– Спросил тоже! – встрепенулся я. – Как не помнить нашего Жана Маре?
– Нашего маленького Жана Марэ, так мы его звали, – поправил Иван.
– Да, да, – подхватываю я. – Красавец! Как Марэ. Только миниатюрный. Небольшого роста. Ладненький! Занимался шахматами, фехтованием.
– Носил рубашки, перекрашенные в чёрный или красный цвет. Обязательно причёска «канадка» и поднятый воротничок рубахи, – улыбается Иван.
– И брюки узкие, – продолжаю я.
Меня останавливает его сухое:
– Похоронил я его.
– Да что ж такое? Как? Он же моложе нас с тобой… И не пил совсем? Отличный компрессорщик-ремонтник.
– А я пил? Ну как сейчас, пил? Некогда было… Тут какая история. Ты-то в Саратов уехал, а мы здесь осели накрепко. У него не всё получалось с его мечтой. Три дочери – одна за одной. А сына нет! Он решил не сдаваться. «Мне сын нужен! – твердил. – Породу надо улучшить! Рослый сын… Найду красивую, какую мне надо, и попробую…»
– И что?
– Что! В Новополоцк набирали бригаду на пуск завода. Он и подался вместе со всеми. Все-то в основном за квартирами ехали, а он со своей целью.
– Семью взял с собой?
– Конечно, нет. Зачем на данном этапе? И надо же! Подобрал себе пару. Мария чуть не на голову его выше. А симпатичная!
Загогулина вышла: родила она ему двойню – Ваню да Маню.
Малость перестарался Алёшка. Как вернулся в прежнюю семью, скрывать ничего не стал. Ольга-то взбрыкнула вначале. Но что поделать? Одной с девками оставаться непросто. Стал он жить на две семьи.
Перевёз новополоцких потом сюда, к нам. У Марии была квартира однокомнатная, от бабушки осталась. Сумели поменять. Чего стоили ему заботы о двух семьях, я знал. Но парень стойкий. То в рыбацких артелях на Волге подрабатывал, то с дикой бригадой сварщиком калымил. Дети были ухожены. Все. А тут как раз нас всех предали. Заводы стали рушиться. Всё вокруг закачалось, зашаталось. Разве мог он такое предвидеть? Наш стратег, Алексей? Совестливый был – не просто ему было. За что только он ни брался! Лишь бы копейку добыть. Подолгу в отъездах был. Челночничал поболее года. Я любил его. Первый друг! По мелочам, как мог, помогал. Тогда, в середине девяностых, у нас ещё теплиц не было. Сын позже развернулся. Нас, середняков, из седла вышибли, дошла очередь до молодняка. Наркоту запустили.
А сын его, Игорь, подрос. Красавец. Опыт удался! Парнина ой-да ну! Под два метра ростом! Лёшкина мечта! Поступил, значит, Игорь в техникум. И тут же на первом курсе: беда!
Может, он и раньше кололся, кто знает? Нашли его в подъезде, помер вроде бы от передозировки. А кто его знает, как было дело?
Алексей чёрный стал от беды этой! Надсадился.
Ты скажи. Вот, если б работал завод, глядишь, коллектив как-то помог бы! Потом на глазах у других полегче всё ж… А тут! Считай в одиночку…
Если государству не нужны токари, компрессорщики – долго оно протянет? Государство такое? На огурцах?
Неужто я умнее тех, кто нами рулит? Не может быть! Значит, дело не в уме? Тогда в чём же? Вопрос! Мой сын – котельщик. А у них на ТЭЦ из двенадцати котлов всего два в работе. Как? Поувольняли многих.
– А Алексей? – спрашиваю. – Что дальше было с ним? Неужели спился?
– Здоровье малость пошатнулось, а голова-то у него всегда светлая была. Последние полгода на городском рынке за деньги давал сеанс одновременной игры в шахматы. В один день после игры, когда домой пошёл, там же, около рынка у пельменной, догнали его трое щелкопёров. Потребовали деньги. С угрозами. Не знали, на кого напоролись. У него видок-то был уже не того. Но характер! Он двоих мигом на асфальт положил, а третий – стервец – пырнул ножичком под ребро. Судили их потом. Алёшки не стало.
Не стало нашего Жана Марэ. Невмоготу мне. Будто с ним вся молодость ушла, без него жизнь тусклая стала… Такую жизнь нам подпустили – людоедку! И молодых, и не очень – всех под одну гребёнку косит…
Он достал из кармана куртки ополовиненную бутылку водки.
Из другого кармана – стакан. С маху налил полстакана. Протянул мне.
– Давай за дружка нашего!
Я закрутил головой:
– Иван, я ж за рулём!
Он молча вылил остальное из бутылки в стакан. Без слов выпил. Дёрнувшись, проговорил, глядя перед собой в одну точку на столе:
– И за Лёшу, и за всё, что все мы потеряли. Он замолчал, и я молчал. Всё было сказано.
Его опять повело.
– Столько огурцов, Иван! Закуси. Нельзя так.
Он глянул на меня чужим, отстранённым взглядом:
– Забери их! Все забери! Без денег. У меня мешок большой есть. Опротивели они мне!..
– С тебя ж твои спросят, – неловко пошутил я, – где, скажут, выручка?
– Я их ненавижу, огурцы эти! И себя вместе с ними. Я себя пупырышком чувствую никчёмным на этой… голой заднице нашего незаконнорожденного капитализма. Увидел тебя – стыдно стало.
– Иван, – непонятно зачем спросил я. – А ты знаешь, кем оказался любимец нашего Алексея, Жан Марэ?
– Кем?
– Ну писали же…
– А, а, – неопределённо мотнул рукой Иван. – Может, это враньё всё…
Он попытался пододвинуть большую эмалированную кастрюлю с огурцами к краю стола. Не рассчитал. Кастрюля скользнула и рухнула вниз. Отборные, один к одному, огурцы, упруго отскакивая друг от друга, полетели в придорожную пыль.
Я было нагнулся за огурцами. Он остановил:
– Зачем из пыли? Завтра приедешь с хорошей сумкой, наберём прямо в теплице.
Выйдя из-за стола, он начал давить непослушными ногами кучу огурцов. С остервенением.
– Я их видеть не могу!
Лицо его исказила брезгливая гримаса.
Торгующие соленьями девицы смотрели на это действо, как на бесплатный спектакль. Не каждый день такое бывает!..
– Вот набрался мужик! С самого утра! – прозвучало над моим ухом.
Я оглянулся. За моей спиной стоял крепкий парень лет тридцати, розовощёкий такой, с толстой золотой цепью на шее.
– Говорят, пенсионеры мрут от голода. Пенсии им не хватает.
А этот молоток! Нашёл свою жилу! Его товар – его право!
Слова были сказаны громко.
– Не сговорились в цене? Чем за бесценок, лучше так! Закон капиталистов – держать цену, иначе останешься без прибыли.
Зря он это говорил, не подумавши…
Голос Ивана прозвучал твёрдо:
– Чего ты лопочешь? Откуда только вы берётесь такие мордастые?..
Он подобрал увесистую кастрюлю с земли и, откинув правую руку вместе с кастрюлей, как это делают при метании связки гранат под гусеницы вражеского танка, собранно пошёл на парня.
– Иду на реванш! – прозвучало в воздухе. – За Алёшку, за всё остальное…
Мне едва удалось схватить Ивана за руку со злосчастной тарой и оттеснить в сторону.
Схватки поколений не произошло.
* * *
…Вот уже и осень на исходе, а я с того случая с пупырчатыми огурчиками ни разу больше по этой удобной дороге не ездил на свою дачу. Сворачиваю чуть раньше.
Подчиняюсь установке жены: «Зачем и ему, и тебе лишний раз сердце рвать? Мало ль тебе недели, которую ты в провёл больнице после той вашей встречи? Не молодой уже…»







