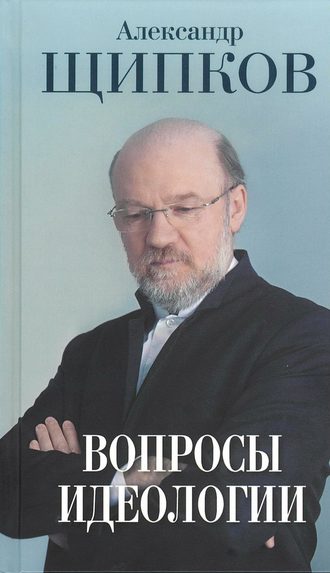
Александр Щипков
Вопросы идеологии
© Щипков А. В., 2018
© Торговый дом «Абрис», художественное оформление, 2018
Стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела, «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее.
Ф. М. Достоевский. Сон смешного человека
Предисловие
Состояние идеологического пространства
Сегодня вопрос «Что такое идеология?» интересует не только узких специалистов – политологов, философов, культурологов, социологов, лингвистов – и политически активных граждан. Он стал предметом интересов большинства.
В какой-то мере этот интерес подтолкнуло развитие информационных и медиатехнологий, а также блогосферы. В то же время формирование массового интереса к сущности идеологии в России происходит с опозданием. Ведь на Западе анализ идеологического пространства, символической власти и войны дискурсов в сущности приобрел особое значение в глазах общества еще до того как были написаны программные тексты на эту тему за авторством Джорджо Агамбена, Карла Шмитта, Жака Деррида, Роллана Барта, Пьера Бурдье, Юлиуса Эволы, Рене Генона и других известных авторов.
* * *
Феномен идеологии – неотъемлемая часть культуры модернити. Социальная специализация идеологии связана с порождением особой картины мира, которая объясняет систему социальных отношений, создавая их вымышленный образ, своего рода социальный фантазм. Возможность сдвигов и изменений внутри этого образа нередко служит основой для идеологических спекуляций и манипуляций сознанием масс.
Существует большое количество определений идеологии, причем выбор одного из них в огромной степени зависит от идеологических установок выбирающего субъекта[1]. Понимание природы идеологии есть не что иное, как идеологическое самоопределение говорящего.
Нередко говорят о «сконструированной реальности» идеологии, о ее манипулятивных возможностях. С точки зрения левой мысли, выработка идей всегда опосредована факторами власти, экономических интересов и классовой принадлежности, из чего следует определение идеологии как «превращенной формы сознания» или «ложного сознания», выражающего групповые интересы, выдаваемые за интересы всего общества[2].
Согласно Карлу Мангейму, идеология также представляет собой искаженный образ социальной действительности, выражающий групповые интересы – это «гигантская социальная макрогипотеза»[3]. При этом главная функция «идеологии», по Карлу Мангейму, – консервация, сохранение существующего порядка вещей. Прямая противоположность идеологии – «утопия», то есть система суждений, объясняющая необходимость смены этого порядка. Революционная утопия превращается в охранительную идеологию, как только такая смена действительно происходит.
Ханна Арендт рассматривала идеологию как прежде всего политическое орудие «тоталитарных режимов», претендующее на обладание «ключом к пониманию истории»[4]. Примерно в том же духе высказывался и Карл Поппер, критиковавший исторический взгляд на общество как «историцизм» с преувеличенными эпистемологическими притязаниями[5].
Традиция «критики идеологии» ХХ в. в лице Ролана Барта, Мишеля Фуко и других ставит задачу исследовать идеологию в чисто функциональном аспекте, «говорить об идеологии без идеологии». Избежать идеологической нагруженности высказываний при этом, конечно, не удается. Согласно Ролану Барту, идеология – это «вторичная семиотическая система», метаязыковой миф, паразитирующий на законах естественного языка и присваивающий его, определенным образом организованная коннотативная сфера высказывания, порождающая особого рода подтексты, «непрямые значения» и подвергающая их социализации (по сути та же самая опосредованность высказывания интересами социальных групп, что и у Маркса)[6].
Мишель Фуко говорил о расщеплении любого знания на восприятие предмета, лежащего за границами дискурса, и оплотненный образ этого же предмета, конструируемый средствами описывающего его дискурса[7]. Промежуточную сферу между дискурсивным и недискурсивным (точнее инодискурсивным) планами восприятия как раз и заполняет идеология.
* * *
Сегодня многие проблемы изучения идеологического пространства вызваны тем, что смысл самого понятия «идеология» трактуется непозволительно широко – вплоть до «корпоративной идеологии фирмы Apple». Но когда ставится вопрос о социальной и социализирующей роли идеологий, это понятие нередко политизируется и рассматривается в том или ином произвольно выбранном историческом контексте, что вступает в противоречие с потребностями научно-теоретического рассмотрения и анализа. Поэтому одна из важных задач ближайшего времени – разграничение проблем идеологического генезиса (и связанных с ним процессов общекультурной динамики) и сиюминутных партийно-политических позиций, отделение одного от другого. Такова одна из актуальных тенденций в сфере идеологического.
Вторая тенденция в сфере идеологии – это самоопровержение возникшего в годы холодной войны стереотипа, согласно которому идеология якобы всегда декларативна, монолитна и внутренне согласованна, что она всегда опредмечена в рамках того или иного «катехизиса» – например, в рамках доктрины научного коммунизма, расовой теории или теории «открытого общества». Этот стереотип показал свою несостоятельность. Сегодня вполне очевидно, что концепции, построенные на таком допущении, принимают в качестве законов идеологии свойства ее конкретного типа, выдают частное за общее.
Между манифестацией и формированием идеологии, как выяснилось, нет линейной зависимости. Идеологогенез многолик и вариативен. Как вариативны и формы легитимации идеологий, отнюдь не сводимые к рационально-логической верификации. Суггестивные возможности идеологии в информационном обществе соотносятся прежде всего не с категориями истинности-ложности (научной или квазинаучной, как в эпоху СССР, или теологической, как в эпоху средневековой схоластики), а с категориями авторитетности-маргинальности. Отсюда, в частности, происходят такие понятия, как «новая нормальность» и инструменты воздействия на общественное мнение вроде «окна Овертона». В качестве примера можно привести историю с фейковым докладом о пытках в тюрьмах Сирии, опубликованным в 2014 г. газетой «Гардиан». Авторитетность «Гардиан», накопленная по контрасту с куда менее солидными и уважаемыми изданиями, как раз и стала тем ресурсом, который позволил на время придать «вес» очевидной фальсификации.
Таким образом, авторитет и маргиналитет в поле идеологии конституируются посредством информационных ресурсов при условии контроля над производством информации. Это означает, что любой статус становится продолжением властных практик, реализуемых с помощью символических структур.
Третья тенденция связана с тем, что уровень рационально-критической проработки идеологий снижается, открытая и явная мифичность в составе современных идеологий растет, в соответствии с чем меняется и их язык. Объяснительная функция идеологии уступает место формированию некритичного, «неомагического» сознания, склонного к наивному восприятию политических идей и проектов.
Так, например, в рамках одного и того же идеологического дискурса можно различить субдискурсы для разных целевых групп с разной мифологической семантикой (например: неоязыческой для «низов», квазипротестантской для миддл-класса, гностической для элиты). Все они функционируют на разных орбитах идеологического дискурса, создавая различные типы ложного сознания. Аксиомы такого сознания, несмотря на их сциентистскую стилистику, связаны с глубинными уровнями культурной семантики. Например, критика давно отживших режимов и социальных моделей, которые якобы могут вернуться (угроза политического «реванша»), восходит к мифосюжету о «пробуждающемся Ктулху». Алармизм, связанный с реальной террористической угрозой (мотив демонического «врага рода») нередко оправдывает отступление от норм демократии и чрезвычайные методы управления.
* * *
Идеологичность, как и связанная с ней мифологичность, остается важнейшим принципом организации общества. Любая мировоззренческая позиция неизбежно попадает в поле той или иной идеологии. Умалчивание об этом – мнимое положение «над схваткой», которой соответствует фигура умолчания – в сущности, делает подобную позицию метаидеологичной, поскольку она претендует на понимание того, что является идеологией, а что – нет. Так, например, принцип светскости государства, будучи вполне идеологическим (ведь светскость – это идеология), получает статус «не-идеологии» и определяет мировоззренческие стандарты государства, парадоксальным образом соседствуя с принципом недопустимости «общеобязательной государственной идеологии». Это типичный пример легитимации без верификации в сфере идеологии.
Собственно говоря, задача любого идеолога как раз и состоит в том, чтобы прямо или косвенно представить свою позицию как «рациональную», «естественную», «позицию здравого смысла», а не как идеологическую. И наоборот, позицию противника представить как идеологическую, узкую и доктринерскую.
Пространство современной культуры панидеологично. У нас нет выбора: жить с идеологией или без нее. Есть другой выбор: та идеология или эта, одна или другая. И еще: можем ли мы отрефлексировать свою позицию, понять, внутри какой идеологии в данный момент функционирует наше мышление, на каком идеологическом языке мы говорим, чей набор символов провозглашаем.
При этом возникает естественная проблема: как предотвратить радикализацию и тотализацию идеологических конструктов. Как защитить от них простое, «бытовое», «родное», традиционное, непосредственное, то есть коллективный культурный опыт, воспринимаемый в его целостности, подлинности, исторической устойчивости. Как, например, защитить от конструктивистской агрессии аутентичное, спонтанное, эссенциалистское восприятие культуры. Как объяснить на уровне идеологии, что ценности, идеалы и их преемственность обладают куда большим историческим ресурсом, нежели сборка-разборка бесконечных культурных проектов.
Разумеется, идеологии могут подвергаться систематизации и классификации.
Институциональные, то есть устоявшиеся и принимаемые социальным большинством идеологии не являются доктринально завершенными, но способствуют трансляции от поколения к поколению ценностей и идеалов, культурно-исторического архива общества (например, православной этики и духа солидарности – для русской культуры).
От институциональных отличаются неинституциональные, узкогрупповые (они же элитаристские) идеологии, которые отражают в первую очередь интересы отдельных социальных групп, борющихся за привилегии и господство с другими такими же группами или противопоставляющих себя обществу – социальному большинству. В связи с этим говорят об идеологиях социальных миноритариев (например, олигархии, «креативного класса», бюрократии и т. п.).
Для таких идеологий характерна ложная институализация (восприятие узкогрупповых ценностей, идеалов и интересов как общих или привилегированных), а для формируемого с их помощью ложного сознания характерны признаки разных видов отчуждения, социального недоверия, склонности к сегрегации и мифам превосходства (например: «активная часть общества делает свой выбор» вопреки интересам «маргинального большинства», «быдла» и т. д.).
Одним из признаков неинституциональности идеологии является ложная социальная самооценка ее носителя. Например, он старается вести себя как представитель среднего класса или элиты, хотя уровень его доходов и потребления не соответствует критериям принадлежности к этим социальным слоям и стратам.
* * *
Институциональная идеология – причем институциональность во избежание влияния частных интересов определяется исходя из культурно-исторических оснований – представляет собой проекцию национальной традиции на нужды и вызовы сегодняшнего дня. Можно также сказать, что институциональная идеология – это самоописание национальной идентичности, ответ на вопрос: «Кто мы, что делаем на Земле и куда идем?», но ответ не абстрактный, а даваемый в контексте сегодняшних условий и обстоятельств, в рамках исторического «здесь и сейчас».
В известном стихотворении 1986 г. Александр Галич писал:
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
Кто скажет: «Идите, люди, за мной,
Я вас научу, как надо!»
Именно в такой логике строится неинституциональный – узкогрупповой, элитарный, политизированный – взгляд на идеологию. Но институциональная идеология отвечает не на вопрос «как надо?», а на вопрос «зачем?». После этого проблема «как надо?» решается по взаимному согласию, а не волевым усилием партийных вождей или финансово-олигархических групп.
Любая идеология неизбежно актуализирует набор оппозиций, формирующих пространство социального универсума: «добро – зло», «свой – чужой», «чистое – нечистое», образ героя и образ врага, образ истории и мировой культуры, образ человечества и его проблем, наконец, собственный словарь. При этом именно институциональная идеология осуществляет рациональное использование данных оппозиций – культурных операторов – в перспективе общего национального будущего. Это создает и поддерживает в обществе культурогенез и культурную динамику – главные условия ориентации данного общества в потоке исторического времени, условия его самоопределения и осознания собственной идентичности. Неинституциональные идеологические модели, если они выдают себя за институциональные, поддерживать данный процесс не способны, поскольку не отражают национального мировоззрения, базовых общественных принципов и убеждений.
Институциональных идеологий в нормальной, не кризисной ситуации может и должно быть несколько. При этом они не должны подменяться господствующей идеологией-гегемоном вроде советского исторического материализма или современного неолиберализма. В то же время, не имеет реальных оснований и идеофобия – боязнь идеологической проблематики, недоверие к ней, в связи с чем рамки самого понятия «идеология» нередко зауживаются, а сам термин политизируется. Впрочем, эта боязнь, кажется, уже уходит в прошлое.
Институциональная идеология представляет собой не некую мировоззренческую полностью завершенную концепцию «под ключ», а определение общих базовых идеалов, целей и задач. Собственно говоря, это условие любой человеческой деятельности, как индивидуальной, так и коллективной. Определяются прежде всего безусловные моральные и цивилизационные табу. При этом проводятся границы идеологического дискуссионного поля: есть вещи обсуждаемые и есть действующий моральный ценз. Например, нельзя всерьез дискутировать с нацистами, но можно и нужно обсуждать тему неонацизма.
Участвуя сегодня в мнимой «дискуссии» с узурпаторами идеологического пространства, мы лишь поддерживаем господствующую ныне идеологию – неолиберализм – и неправомерно изымаем из условий общественной дискуссии необходимое требование моральной чистоты.
Идеологический диктат меньшинства над большинством недопустим. С признания этого факта должен начинаться любой разговор об общественных ценностях и любая публичная дискуссия.
Вполне очевидно, что любая институциональная идеология не призывает встать на чью-то политическую платформу и отринуть все остальные. В то же время есть границы допустимого в общественной дискуссии. Они не могут быть слишком узкими, но не могут быть и слишком широкими. Признак успешной институциональной идеологии – умение верно определить эти границы, исходя из потребностей и традиционных ценностей общества, создать поле общественной мысли, площадку, а не вывести некую доктрину.
* * *
Вопросы о возможном облике идеологии ближайшего будущего имеют особенно важное значение. Еще недавно эти вопросы принято было относить едва ли не к области футурологии. А сегодня их уже невозможно игнорировать: если общество не ставит эти вопросы перед собой, оно рискует оказаться на обочине истории. И дело здесь не только в выводах экспертов. Интуитивно эту ситуацию ощущает и обыватель. Он дезориентирован, не может разобраться в противоречивых потоках информации и сказать, что ждет мир хотя бы через неделю. Все это признаки существующего в настоящее время идеологического вакуума. Его существованием мы обязаны переходному состоянию социума, при котором старая идеология уже неэффективна, а новая еще не появилась.
Неэффективность идеологии связана с нарастающей архаизацией социальных систем. Ее признаки – штабная экономика, методы информационного контроля над обществом, утрата научно-критических ориентиров массовым сознанием, легализация и рост неонацизма. Сегодня кратократические подходы все сильнее входят в противоречие с господствующими идеологическими концептами.
Эта ситуация мировоззренческого хаоса уже имела место в России на закате советской эпохи, теперь же она повторяется в мировом масштабе. И нам предстоит пережить еще одну, на этот раз мировую «перестройку», которая будет включать в себя трансформацию идеологического пространства и его господствующих трендов.
Замена экономики глобальной зависимости и ссудного процента другой, более человечной и демократичной моделью, неизбежно приведет к появлению идеологических направлений, обслуживающих новую социально-экономическую реальность. Для такой модели потребуются идеологии, тяготеющие одновременно к социальному государству, традиционализму и усилению государственной «вертикали». Этот тренд уже получил ряд названий, таких как «новый этатизм», «социал-традиционализм», «левый консерватизм», «консервативный социализм». И данная тенденция будет противостоять набирающему силу ультраправому тренду, который является генетическим преемником неолиберализма. Остается надеяться, что духовная репатриация современного общества все же окажется возможной.
Итоги XX века
История как общественный договор
Споры о переписывании истории и единых учебниках будоражат общественность. Говорить на эту тему всегда несколько неловко, но и молчать невозможно. Завеса умолчаний становится только гуще, скрывая за собой ряд простых и очевидных вещей.
Главный вопрос: что такое история для обывателя, как с ней обходиться, как себя с ней вести. Оговорюсь сразу: создать железные правила обращения с историей просто невозможно, поскольку из всех гуманитарных наук как раз история и еще философия – самые «проблемные». Причем проблема лежит в самих основаниях этих дисциплин.
Историю чего именно мы изучаем? Какое именно прошлое? Ведь не может быть «истории всего», даже в отдельные исторические периоды. Одно дело история династий, другое – народных движений и революций, третье – экономических формаций, четвертое – правовых систем. Это четыре совершенно разные «истории». Их нельзя соединить в единый свод. И если в физике есть «единая физическая картина мира», то единой исторической картины нет и быть не может. Таким образом, говорить о единстве предмета исторической науки довольно сложно.
Возникнут проблемы и с верификацией – проверяемостью знаний. Дело в том, что до сих пор никому еще не удавалось выделить в истории «всеобщие закономерности». Хотя марксизм потратил много сил, чтобы их отыскать, а либерализм до сих пор старается навязать эти закономерности в виде неких «цивилизационных» критериев.
О прогностических возможностях историков даже и говорить неловко: кое-что, правда, поддается прогнозу, но лишь в предельно общих масштабах и далеко не всегда.
Тем не менее, история используется для того, чтобы объяснить человеку его место в этом мире. Это один из самых простых и испытанных способов, и менять его на другой никто не собирается. Именно поэтому история – одна из самых мифологизированных дисциплин. Ведь, как известно, летописи и исторические хроники переписывались заново при каждом князе – в угоду моменту. Увы, хотим мы этого или нет, но выражение «История – это политика, опрокинутая в прошлое» абсолютно справедливо.
Сделать историю политически и идеологически стерильной невозможно, следовательно, не надо разбивать лоб о невыполнимую задачу. Как известно, учебники, написанные по принципу «факты и только факты», проигрывают своим идеологизированным собратьям. Страдает системность изложения: запомнить материал, изложенный таким способом, почти невозможно.
А вот что действительно можно и нужно сделать, так это расставить приоритеты. То есть деконструировать те исторические мифы, которые мешают национальной идентичности, вредят национальным задачам.
Первый и главный миф, от которого стоит избавиться: будто бы в «цивилизованном мире» озабочены построением этой самой объективной истории, а мы хотим словчить и выбрать себе удобную. Чушь и глупость. Никто и нигде в мире ничем подобным не озабочен.
Например, понятие «нормализация истории» в Германии стараниями историка Эрнста Нольте используется давным-давно. Это делается для того, чтобы освободить национальное сознание немцев от травмируюшего фактора Второй мировой войны – как от горечи поражения в ней, так и клейма нацизма. Понятие «переписывать историю» на Западе существует давно, но применяется только к оппонентам. Давайте примем во внимание этот modus operandi и осуществим несколько необходимых шагов.
Проведем ревизию национальной истории и посмотрим, в чем ее позитивный смысл и поступательное движение; исходные условия, цели и задачи.
Скажем честно, что история – это общественный договор, но не по поводу настоящего, а по поводу и прошлого, и настоящего, и будущего. Нам необходимо добиться общественного консенсуса по поводу собственной истории, а не мучиться вечными вопросами и неразрешимыми дилеммами.
Чтобы сформировать образ национальной истории, надо соединить в коллективном сознании разрывы национальной традиции. То есть собрать то, что уцелело, примирить враждующие идеологические группы, разделенные негативом исторических конфликтов. Перед лицом реальных вызовов недопустимо выяснять отношения между бывшими «белыми» и бывшими «красными».
У национальной истории должен быть четко определенный субъект. Этот субъект – народ, нация. Это приоритет.
Чтобы история народа-нации существовала прочно и долго, мы должны договориться о нашей идентичности. Поскольку история народа – это история людей, связанных общей идентичностью. С этого положения должен начинаться и этим заканчиваться любой учебник истории.
Идентичность определяется на основе «квадрата идентичности». Например: «русские = русское православие + русский язык + русская культура + общие исторические цели, знаковые события и фигуры». Разумеется, в многонациональной стране национальное не может быть сужено до этнического. Мы прекрасно понимаем, что Шойгу и Кадыров, какие бы у них ни были этнические корни, являются русскими и защищают именно русские интересы.
Важно определить роль нации в конфликтах. Например, четко настаивать на том, что в 1941 г. СССР был жертвой, а германский альянс (не только Германия, но и венгры-румыны-итальянцы-финны-норвежцы-японцы и др.) – агрессором. И, скажем так, у нас остались кое-какие претензии. Цифры ущерба хорошо бы обновить и опубликовать.
Мы не сможем привести в порядок свою историю, если не отречемся от явно антинациональных действий части российских элит. Например, нам необходимо признать: Беловежский сговор 1991 г. был национальным предательством и циничным попранием результатов референдума 1990 г., поэтому он юридически ничтожен. А сохранение советских границ с Украиной при уходе Украины из-под советской юрисдикции было актом аннексии русских территорий.
Сегодня самые политизированные исторические темы – это разделенный русский народ, нацизм и неонацизм, роль церкви в истории страны, итоги и причины войны 1941–1945 гг., советский период, в котором не хотят толком разбираться ни противники, ни сторонники СССР, и, разумеется, период 1990-х и «нулевых». Эти темы надо учесть в первую очередь в ходе анализа отечественной истории и при написании учебников.
Придется ответить и на вопрос, не принижают ли роль России на Западе. Принижают – именно потому, что эта роль потенциально высока. Причем на примере украинских событий мы лишний раз убедились: в мире есть лишь один самостоятельный игрок – США. Континентальная Европа не является самостоятельным политическим субъектом. У нее нет своей политики.
Это политический момент. Есть и идеологический. Россию недолюбливают политические элиты, потому что в России и отчасти в Восточной Европе не было периода Возрождения и Реформации. Это определило социокультурные различия. То есть средневековая культура не превратилась до конца в секулярный рационализм и институционализм. Элементы средневековой сакральности удалось даже внедрить в проект советского модерна. Эта наша особенность пугает европейцев как всякая альтернатива. Одно дело «чужие» монголы или китайцы, другое дело – вроде те же европейцы, но иные, альтернативные. Это очень некомфортное чувство для европейцев – чувство расколотости своего коллективного «Я».
Да, феномен России болезненно сказывается на евроидентичности, давит на подсознание. Особенно мучительно это ощущение сейчас, когда Европа уже готова расстаться со своей христианской идентичностью, а Россия остается христианской и служит западным европейцам напоминанием о самих себе – настоящих. К тому же при таком раскладе Россия – если выживет, конечно – может стать единственным наследником подлинного европеизма. Западным европейцам это неприятно, и их вполне можно понять. Но это их проблемы, а не наши. Наше дело – исходить не из того, что мы «хотим в Европу» или «мы тоже Европа», а из того что «мы-то и есть Европа».
Разумеется, не всех устраивает такой исторический сценарий. При этом надо понимать: главная борьба за историю разворачивается все-таки не в учебниках, а в реальном мире. Уничтожение России путем распространения исторической неправды – естественное желание конкурентов. К сожалению, такой развал выгоден не только внешним противникам, но и тем внутрироссийским игрокам, кто хотел бы поживиться, распилив российское наследство точно так же, как распилили советское наследство в 1990-е.
Тут все просто. Если государство не платит интеллектуалам за национальные проекты, другие центры силы (внешние) будут платить за антинациональные. Конкуренцию в политике никто не отменял. Это не теория заговора, а всего лишь теория конкуренции. Конечно, одна из первых задач антироссийских сил – разрушить исторический консенсус и чувство русской идентичности. Без этого нация перестает быть нацией, а общество разваливается на глазах.
Должны ли мы сопротивляться этой тенденции и каким образом?
Да, разумеется. Мы должны договориться о базисных вопросах. И одновременно лишить статуса либеральную пропаганду. Ясно одно: не освободив «территорию истории» и пространство идеологии от сорняков, на ней невозможно ничего вырастить.
Не стоит вести бесплодный и бесконечный спор о том, где причины наших проблем: внутри или вовне страны. Это ложная альтернатива. Эти причины и там и там, они взаимосвязаны.
Подводя итог, скажем, что историк должен представить картину, из которой будет следовать единство традиции, идентичности, национальных целей и задач. Следует навсегда забыть такие выражение как «суд истории» и «коллективная вина». Это политическая риторика куда более низкого уровня, чем та, которая потребна историку. В истории есть ошибки и спорные решения, надо искать их причины и отвечать на вопросы «можно ли было их избежать» и «почему не удалось этого сделать». Никакие ошибки никогда не перевешивают национальные цели и национальные задачи.
Имеет ли право историк на свою интерпретацию событий? Ну, разумеется. Хотя бы потому, что точка зрения любого историка – это уже интерпретация. Ведь «объективной» истории не бывает. Так что это право одновременно и неизбежность. Но любой историк должен осознавать важность своей профессии, которая в этом смысле подобна профессии врача и учителя. Осознавать – и согласовывать свою деятельность с принципом общественного блага.
Но, конечно, поскольку истории вне идеологии быть не может, историку необходимо помочь – отменить нелепый конституционный запрет на «идеологию», а точнее, на национальные принципы и ценности. Если народ не сформулирует свою идеологию, он либо вынужденно примет чужую, либо будет жить по принципу «войны всех против всех».
И последнее. Крайне вреден для работы с национальной историей абсурдный тезис о «поисках национальной идеи». Поиски национальной идеи – глупость. Национальных идей много: это писаные и неписаные правила, по которым живет общество, но они выводимы из более общих понятий. Внятным должен быть образ традиции (внешний план) и идентичности (внутренний план, субъективное переживание принадлежности к традиции), а также национальные цели и задачи. Все национальные идеи выводимы из этих понятий.
Главное, нужно помнить, что наука история, как и философия, должна не только объяснять, но и менять мир.







