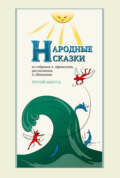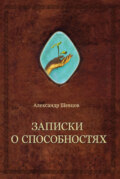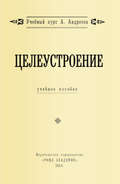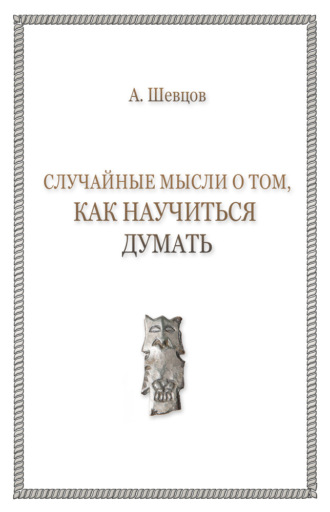
Александр Шевцов (Андреев)
Случайные мысли о том, как научиться думать
Глава 5. Выбора нет
Человек – это устройство самосовершенствования. А жизнь земная – не юдоль печали и не поле страданий – это учебный полигон для самосовершенствования. Современные христианские мыслители объявляют самосовершенствование чуть ли не противным божественному замыслу, но при этом совершенствуются в том, как управлять сознанием паствы. Буддизм начинает свое рассуждение с утверждения, что жизнь есть страдание, но надо сделать громадное усилие, попросту, изнасиловать себя, чтобы принять это.
Эти религии, как говорит про себя само христианство, противоестественны. Они против естества человека, поэтому они строят себя на вере, которая должна предшествовать опыту. Бого- или Буддо-откровение порождает исходный метод: верую ибо абсурдно. Абсурдно, значит, не соответствует природе, не естественно, но так, как не может быть. И есть только потому, что Бог так задумал, а Будда так объявил.
Но даже для того, чтобы принять веру, над собой надо сделать усилие. Как и для того, чтобы увидеть внутреннюю пустоту, без которой не наступает буддийского просветления. Самая знаменитая христианская внутренняя техника – умное делание или христова сердечная молитва, есть усилие по удержанию своего сознания на чем-то одном, на одной мысли, на одном чувстве. Как и дзенское сатори – усилие, требующее понять что-то важное, что выкинет тебя за пределы обычного сознания.
И то и другое усилие соответствует йогической дхьяне, то есть собиранию внимания на одном, что должно остановить разум. Но это «одно» обязательно присутствует. Даже в йоге, чтобы достичь самадхи, ты должен удерживать свое внимание, а с ним и весь свой разум на божестве, Ишваре. И к этому ты должен стремиться изначально. А значит, изначально поверить в нечто, чего не наблюдаешь в своей природе естественно.
По большому счету, я совершенно не против обнаружить в конце пути Бога. Или пустоту. Но я не хочу стремиться к этому изначально, чтобы не подгонять свои действия под ответ, который подсмотрел в конце книги. Человеку, который остановил работу своего разума на мысли о боге, очень трудно освободиться из этой ловушки, если его разум больше не работает. Эта мысль о боге становится его Богом, которого он теперь начинает видеть, куда бы ни обратил взор. При этом буддист, достигший того же состояния и остановивший разум, видит только пустоту. Похоже, какой фильтр одеваешь на глаза, таким и видишь мир, даже при достижении просветления или святости.
Но пока фильтры еще не одеты, пока разум, который надо обуздать, еще работает, ничто не мешает нам подумать, посмотреть на мир без предвзятости, понаблюдать и даже поисследовать. Наверняка, мы совершим при этом немало ошибок. Но ошибки, которые можно исправить, – лишь меты пути. Главное, что само устройство человека таково, что он не может не совершать усилия. Он, как огонь, вырывающийся из полена, – пока топливо не исчерпано, огонь будет рваться наружу.
Так и человек. Древняя Русь была миром огнепоклонников. Очевидно, все первобытные начинают с этого – ведь огонь спасает от холода и смерти. Поэтому они видели его проявления во всем – в очаге, в солнце, в теле человека, которое способно вырабатывать тепло. В определенном смысле они были правы, ведь с химико-физической точки зрения горение – это окисление, то есть выжигание кислорода. Когда пища переваривается в нас, говоря упрощенно, она горит, окисляясь. И народ всегда видел сходство с горением, так и говоря про детей, что у них в желудках все горит.
Пока человек жив, в нем горит огонь жизни, а горение его выражается в движениях и звуках, которые из него рвутся. Пропущенные сквозь образы разума, эти звуки и движения становятся речью и действиями. Пока мы горим, мы действуем, направляя свой внутренний огонь на то, что изберем. Но избрав, мы начинаем видеть избранное целью.
И тогда начинается движение, а с ним самосовершенствование. Очень редко нам удается достичь желанного просто. Чаще на нашем пути встают помехи. Иногда внешние, всегда – внутренние: тебе не хватает силы, тебе не хватает ловкости, тебе не хватает знаний, тебе не хватает ума… Самосовершенствование в этом виде просто, естественно и желанно.
Ты не умел плавать? Ты начал каждый день бегать на реку и за лето научился плавать. Это было наслаждением. Ты не умел ездить на велосипеде? Ты завелся, уперся и каждый день делал попытки. И уже через неделю ты гонял быстрее ветра. Это было наслаждение. Но вот тебя заставили научиться играть на фортепьяно или решать алгебраические задачи. Ты бросился в это так же, как и в остальные дела, с наслаждением. И не смог… Чего-то не хватило. Или предмет оказался слишком велик. И вот у тебя выбор: либо бросить, либо продолжить. Бросить вовсе не просто, потому что тогда придется искать некое иное приложение сил – огонь рвется изнутри и требует действовать. И ты болеешь.
Мы все бросали не бросая, мы собирались бросить и переставали заниматься тем, что у нас не получалось. Но не переносили огонь на другое дело. Легко бросать, когда другое дело уже захватило тебя. И очень непросто, когда ты просто сдаешься, поскольку у тебя не получается. Без нового дела огонь продолжает гореть, но для него нет выхода. И он идет внутрь. Он накапливается внутри и в какой-то миг заставляет тебя сделать новую попытку. Ему все равно, во что проливаться – что стоит перед твоими глазами, в то он и потечет…
И так мы побеждаем в трудных делах. Это второй способ самосовершенствования, свойственный человеку: отступить, накопить желания и сил и попробовать еще раз. Как и в первом случае, ты полон желанием, и оно ни на миг не прерывается.
Но есть случаи, когда желание уходит или его не было изначально. Но ты знаешь, что это надо сделать, и делаешь, исходя из чего-то совсем иной природы, чем желание. Каждый испытывал это. Осознайте, что знакомы с этим состоянием. Это есть усилие перехода в более широкий слой сознания. Обычно человек живет в той части своего сознания, которой правят очевидные и непосредственные желания. Но иногда нам приходится переходить туда, где правит Надо, и именно это считается качественным признаком ЧЕЛОВЕКА.
Именно эти состояния требуют преодоления себя, что значит, преодоления нежелания делать. В действительности, у нас нет нежеланий, хотя мы естественно говорим: не хочу! У нас есть только желания, иные желания. Именно они и не дают заниматься тем, что Надо. Именно их приходится преодолевать, когда преодолеваешь себя. Случай условного «сумасшествия», когда нечто инородное в твоем сознании просто вмешивается в твои действия и навязывает, что делать, а что не делать, я не рассматриваю. Но надеюсь, что читающий это владеет способами очищения сознания от всего инородного.
Простой и здоровый случай, естественно возникающий в жизни каждого: ты хочешь то, что хотел всегда, но приходит Надо, и ты преодолеваешь себя. Ты повзрослел и из зверушки, милой и игривой, стал Человеком. И этого не избежать. Этого выбора у нас тоже нет. Причем, даже те, кто бунтуют, пока это НАДО навязывается им извне другими людьми, все равно раз за разом заставляют себя делать то, что необходимо. Хотя бы вставать раньше, чем хочется, или говорить так, чтобы тебя понимали, заставляя себя работать над внятностью речи…
Наше сознание заполнено образами выживания в природе и обществе. Это огромные запасы знаний и умений. Но поняв, что преодоление себя повсеместно и проявляется в сущих мелочах, осознайте, какой большой объем сознания занимает этот опыт. Преодоление себя повсеместно. Оно присутствует во всем, чем мы живем. И только кажется, что оно дополнительно к остальной жизни. Эта остальная жизнь нужна, чтобы мы научились преодолевать себя. Мы живем ради того, чтобы однажды из пространства разума, обеспечивающего выживание, перейти в пространство преодоления себя.
Это естественно и очевидно. И при этом впустить в себя эту мысль чрезвычайно трудно. Она просто не остается в том, что ты называешь собой. Выскакивает, как пробка из воды, поскольку то, что ты называешь собой, есть среда, которая не впускает в себя ничего иной плотности. Мысль, что мы живем, чтобы научиться преодолевать себя, иной плотности, она сделана из более легкого вещества, а значит, принадлежит более легкому миру.
Поэтому в пространстве разума ее можно запомнить, но нельзя принять. Здесь задачи выживания настолько важней, что смена цели повела бы к гибели. В битве за выживание нельзя разбрасываться, надо быть цельным. Как и в преодолении себя. Поэтому принять эту мысль – значит, перейти в иной мир, расширить свое сознание настолько, что это станет безвозвратным. И это еще один шажок просветления, в смысле изменения своей природы. Не знаю, есть ли в этом хоть какие-то соответствия буддистскому понятию о просветлении, но это определенно вызревание того естества, которое делает меня человеком.
И, похоже, это настолько естественно, что обязательно.
Глава 6. Пространство преодоления себя
Преодоление себя так же естественно, как дыхание. И потому нам трудно его видеть и осознавать чем-то особенным. Оно подобно воздуху, оно во всем, а потому не воспринимается нами даже особой средой, пронизывающей разум. Тем более трудно увидеть, что это не просто среда, а иное пространство сознания, которое наложено на пространство разума.
Наложение двух пространств дало странный эффект – мы воспринимаем его как свойства некой среды, заполняющей это пространство. Но это разные среды, принадлежащие разным мирам. В сущности, их даже три: одна – это среда мира тел, вторая – среда мира личностей, а третья – среда мира души.
Все они при этом проявлены в некоем четвертом пространстве, которое Декартом было названо Когито. На осознавании этого пространства строится вся европейская философия Нового времени. А за ней и психология. В примитивном психологическом выражении это пространство называется «головой». Как родилось это заблуждение, ставшее исходным основанием всех рассуждений, создавших нашу философию и науку?
Cogito ergo sum – так звучало это утверждение Декарта, к которому он пришел, рассуждая о том, что можно считать единственным надежным основанием любых исследований и рассуждений. У нас его принято переводить как: я мыслю – значит я существую. Этот перевод неверный и даже вредоносный. Cogito не означает мышление, это, скорее, познание. Но и перевести высказывание Декарта как: я познаю – значит я существую, было бы ошибкой. Никакое действие познания не имелось им в виду, когда он пришел к этому итогу.
По большей части Декарта пытались понять на уровне перевода, то есть в заключительной точке его рассуждения, в выводе. И это сразу превращалось в ловушку слов, в ловушку перевода. И очень мало кто из психологов пытался понять то, что переживал Декарт, когда шел к своему выводу. А переживал он вполне доступные любому прозрения. Он их подробно описывает в «Рассуждении о методе».
Задавшись вопросом, на чем же можно строить подлинное и точное философское рассуждение, он рассматривает по очереди все то, что может обнаружить, когда заглядывает, условно говоря, себе в голову. То есть в то пространство, в котором, по его предположению, и творится наше рассуждение. Конечно, это никакая не голова. Это некое пространство, в которое может погрузиться наш внутренний взор, где и обнаруживает мысли, образы, чувства и желания.
Пространство это есть наше сознание. Но, вот насмешка, поняв его сознанием, ни Декарт, ни его последователи не поняли его пространственности. Они даже называли его сценой, на которой творится некое представление, и все равно не видели ни пространственности, ни объема. Сознание картезианства было сознаванием. И родившаяся из когито новая психология, названная психологией сознания, была психологией сознавания, потому что в этом пространстве было только то, что ты осознавал, глядя на него.
Именно это значение и было сутью когито. Cogito ergo sum – я сознаю себя сознающим – значит я есть. Это погружение в себя настолько потрясало любого европейца, которому хватило сил вслед за Декартом проделать это упражнение, что он останавливался пораженным перед открывшейся глубиной познания мира. Именно отсюда пришло последующее открытие современной физики, что присутствие наблюдателя может воздействовать на протекание эксперимента.
Там, в глубине самого себя, ты обнаруживаешь нечто, что проявляется в тебе, но принадлежит совсем иному миру, миру подлинному, миру, откуда приходят истины. Истины и захватили воображение европейских мыслителей. Пробиться к истинам – значит проникнуть в мир Платоновских идей. Это была давняя мечта всей европейской философии. Декарт стал вторым после Платона, потому что он открыл путь на Небеса.
Путь этот или метод назывался инсайтом, самонаблюдением. Но ни глубина ни метод не могли сравниться с самими истинами. Они были так заманчивы, что кто-то, подобно Локку, кричал им, как обиженный на Бога ребенок: «Тебя нет!» Кто-то, подобно епископу Беркли, заявлял, что нет ничего, кроме этих идей. А кто-то, как Гуссерль, ради возможности жить на Небесах, готов был отпихнуть ногой лестницу, по которой туда забрался, и посвятить жизнь войне с психологизмом…
Но никто не обратил внимания на глубину, а значит на пространственность той «головы», в которой разворачивалась эта битва европейского сознания. Это простительно для философов, но психологи обязаны были заметить, что сознание не есть осознавание. Однако они не заметили этого даже после того, как Фрейд заговорил о содержаниях сознания. Содержания сознания являются общепринятым фактом современной психологии, но при этом сознание остается для нее сознаванием, которое по определению не может ничего в себе содержать. Даже сам Фрейд, создав сильнейшую школу работы с содержаниями сознания, до конца жизни определял сознание как сознавание…
Объем, глубина, способность иметь содержания – все это черты и свойства пространства. Сознание пространственно. И более того, оно состоит из нескольких пространств, вложенных одно в другое или наложенных одно на другое. Эти пространства отличаются тем, что в них вещество сознания обладает разной плотностью, то есть содержания этих пространств хранятся в разных средах, лишь исходно имеющих одну природу, так емкость, заполненная кусками льда, может вместить в себя и воду. А где вода не покроет лед, образуется пар, и это разные среды одной природы.
Вот так и сознание содержит в себе образы разного качества. Одни из них обеспечивают выживание тел, другие – личностей. А третьи – жизнь того тела, в котором я воплотился в физическое тело. Обычно его называют душой. Эти среды взаимопроникают, и наш разум может работать в любой. Поэтому он одновременно решает задачи самых разных уровней.