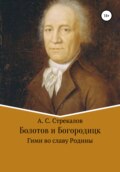Александр Сергеевич Стрекалов
Невыдуманная история
10
Андрей и учился – совершенно один! – быстро, надо сказать, и качественно учился. Через пару-тройку деньков он уже привык к пиле и визгу её устрашающему, худо ли, бедно ли, сжился с ней, сроднился даже, перестал трусить её, нелепых ошибок бояться. Через неделю-другую все хитрости и премудрости у пилы смекалкой собственной выведал, сам разбирать и точить её научился (и точить полотно мужики с пилорамы не очень-то и хотели: ленились, черти, водку с Андрея за это требовали), научился хорошую сталь от плохой отличать – отказывался потом от некачественной мягкой стали. Даже и своё рабочее место оборудовать догадался по всем правилам техники безопасности: мотор заземлил по совету электрика, расшатанный стол укрепил, деревянные щиты над крутящимся диском на уровне головы повесил по причине отсутствия защитных металлических кожухов. Чтобы, значит, глаза себе отлетавшими во время работы щепками не повышибать, которые летали как пули, – чем мужиков деревенских в неизменный восторг приводил, а заодно и командира с мастером. Те нарадоваться на него не могли – такого отчаянного и ловкого, такого смекалистого не по возрасту, – с каждым днём уважали и ценили его всё больше и больше.
И Андрей обоих их уважал. Перепечина Володю, в особенности. В первые дни приезда глаз с него не сводил, всё наблюдал за мастером с любопытством: как разговаривает тот с людьми, объясняет им дело новое, как в любой работе бойцам-первогодкам с душой помогает-подсказывает. Стоит, бывало, в сторонке, смотрит, как кто-то из молодых топором без-толково машет или лопатой неловко землю скоблит, подмечает все недостатки и упущения. А потом подойдёт, осторожно так тронет за руку и начнёт объяснять не спеша, как лучше топорище, черенок лопаты держать, чтобы руки и ноги себе не поранить, чтобы работа строительная в радость была – не в тягость. Как за детками малыми за всеми ходил и следил, заботился о вверенных ему пареньках всецело.
Работу дурную, ненужную, делать не заставлял: перед тем как новое что-то начать, всё тысячу раз обдумает, обойдёт и обмерит. Потом бригадиров на совет соберёт, их мнение авторитетное спросит, а бойцам пока отдыхать велит всё это время… А уж если вдруг промашка какая у него выходила или нелепица: напрасно что-то бойцы его с места на место перетаскают или выкопают не то, допустим, или столбы в коровнике не так поставят по его указанию. Стройка, она ведь стройка и есть – колготное и чрезвычайно путаное дело. Всего там не спланируешь и не предусмотришь заранее, как ни старайся и как ни крутись! – потому что проблемы разные вылезают уже по ходу работы… Так вот он, Перепечин, потом несколько дней сам не свой по объекту ходит, поедом себя ест и корит нещадно: ну, мол, я и балда, ну и дятел, до такой простоты не додумался! Мастер тоже мне называется!…
Очень он Андрею за это за всё нравился – куда больше даже, чем летун-командир. Командира-то он побаивался всё же, робел неизменно в его присутствии, нервничал, суетился излишне, – хотя Толик Шитов в общении был парень простой, с Андреем всегда дружелюбен. Но он был начальник, как ни крути, был по возрасту старше всех, жил от подчинённых отдельно в школе – в гостевом директорском домике… И поругаться он запросто мог, публично каждого отчитать, даже и домой не понравившегося бойца в два счёта отправить. И за порядком и дисциплиной в отряде всё-таки он следил, за ним было и последнее в любом важном вопросе слово… Он и у Перепечина был командир, и это накладывало на каждого свой существенный отпечаток.
К тому же, Шитов был москвичом, а Перепечин Володя – иногородним. А иногородних студентов от москвичей непреодолимый барьер всегда отделял, незримый – но очень существенный и весомый. Иногородние-то, при всём уважении к ним, были в Москве гостями, приживалами числились пять студенческих лет, этакими полу-легалами-полу-бездомниками. В общежитии обитали-ютились на временной основе, плохо и тесно там жили, чуть лучше бомжей в ночлежках, и остро ощущали всегда эту свою проклятую временность и бездомность, свой гостевой статус. С превеликим удовольствием – все! – жаждали его на постоянную московскую прописку со временем поменять, законными москвичами сделаться, полноправными столичными жителями… Поэтому-то и вести себя с хозяевами на равных они при всём желании не могли: психологически они москвичам всегда и везде проигрывали. И никакая разница в возрасте, знания и талан, никакой жизненный опыт и авторитет им здесь, увы, не помогали.
Оттого-то 18-летний москвич Мальцев, скромный боец-первогодок, мог запросто с 23-летним мастером Перепечиным на любую тему поговорить, любую обсудить проблему. Потому и чувствовал себя с ним всё лето почти что на равных…
11
Перепечин с Шитовым были первыми, но не единственными, кого близко узнал и полюбил в отряде Андрей, к кому с симпатией и глубоким почтением относился. Были у них и другие парни, Мальцеву глубоко симпатичные, которые не уступали командиру и мастеру ни по каким статьям: ни по качествам человеческим, ни по уму; ни по красоте душевной, ни по красоте телесной.
Были в ССО “VITA” два бригадира, к примеру, два Юрия: Юрка Кустов и Юрка Орлов. Первый, опять-таки, иногородний, а второй, Орлов, коренной москвич, – которых Андрей хорошо узнал и зауважал уже в процессе работы, знакомством и дружбой с которыми потом неизменно и долго гордился…
Рабфаковец Кустов, 22-летний бывший воин-десантник из Нальчика, сразу же прославился в отряде тем, что топоры и ножи кидал с любых положений, кидал точно в цель, куда ему перед тем указывали, чем поражал стройотрядовцев несказанно. И бутылки пустые он как яичную скорлупу колол, даже и из-под шампанского: горлышко у них отбивал взмахом рук, – и гвозди загибал на пальцах; и даже и скобы строительные, поднатужившись, ладонями шершавыми гнул, кольца металлические из них на потеху делал. Здоровяк был знатный: силищу имел немереную!
Но не этим, конечно же, он Мальцеву полюбился: кидания и загибания – это всё для потехи и пацанов. Полюбился он Андрею сноровкой своей фантастической и удивительной работоспособностью – качествами, которые Андрей впоследствии больше уже ни у кого не встречал, которые для него эталонными так до конца дней и остались.
До чего же рукастым был всё-таки парнем этот Юрка Кустов, до чего красивым и спорым в работе! – с ума можно было сойти, на него долго глядючи! Работал изящно всегда, работал легко, прямо как артист настоящий. Причём – везде, на любом участке и с любым инструментом. К тому же, работал быстро на удивление, и при этом достаточно качественно, так что угнаться за ним в отряде никто не мог: КПД его был всегда наивысшим.
Удивительным было и то для Мальцева, что высокая скорость работы была для него естественной и нормальной: он жилы из себя никогда не рвал, не показушничал перед командиром и тем же мастером. Работал, как правило, за исключением авральных дней, по своим обычным возможностям, в обычном ритме. Оттого и выходило всё у него так красиво и зажигательно! Он и топором махал как хороший художник кистью, и мастерком со шпателем; и кирпичи удивительно ровно, словно по линейке, клал, и штукатурил стены на загляденье качественно и скоро: его штукатурка потом никогда не отваливалась… А уж как он с бензопилою “Дружба” играючи обращался, как грациозно ею вековые сосны под корень срезал, ни страха не испытывая, ни напряжения, – про это можно б было фильмы снимать и по телевизору их потом показывать в качестве учебного пособия для лесорубов. Игрушкою детской казалась бензопила в руках Кустова, какими в детских садах карапузы играются.
Когда Юрка работал, он всегда песни пел – дворовые или блатные, как правило, – работать мог сутками, не уставая, и при этом ещё и анекдоты напарникам или байки из армейской службы травить, до которых он был страстный охотник. Работать с ним было одно удовольствие: веселил он всех от души и сам вместе с напарниками веселился. А всё потому, что Мастером с большой буквы был: умел, человек, работая, расслабляться, кратковременный отдых себе давать, экономно расходовать силы, чего молодые бойцы-первогодки делать совсем не умели – даже и через месяц после приезда на стройку, и через два. Оттого и выматывались до предела, пытаясь угнаться за ним, еле ноги вечером волочили, валились с ног. По этому крайне важному свойству, умению расслабляться и отдыхать, Юрка в отряде тоже заметно всех обходил. И было это у него, скорее всего, врождённое…
На бригадира плотников, своего непосредственного начальника в первый месяц работы, Мальцева на стройке с неизменным восторгом смотрел. Всё удивлялся, как это ловко у него любое дело спорится – без брака, шума и суеты, без единого лишнего взмаха, движения.
Бригадир, подмечая слежку, не выдерживал жара его карих глаз, начинал хохотать раскатисто. «Ты дырку на мне прожжёшь, Андрюха! Отвороти глаза-то», – говорил ему озорно, по-отечески ласково, и Андрея за такое повышенное внимание и чувства искренние, дружелюбные, к себе приближал, с собою брал неизменно. И рухнувший мост в Ополье взял восстанавливать с одобрения мастера, о чём уже говорилось выше, где Андрей его ловкостью и разумностью удивил; и только Мальцева одного взял лес сосновый валить, жил с ним три дня в шалаше, от зори до зори работал. Сам с бензопилою ходил, на лесником отмеченных соснах надпилы делал, а Андрей у него толкачом-вальщиком был, шестом берёзовым валившиеся деревья направлял в нужную сторону – трелёвочному трактору подъезд улучшал, погрузку… Там, в лесу, он с бригадиром своим здорово сблизился: ел с ним из одного котелка, пил чай и воду из одной кружки, под одной шинелькою спал; тайны свои сокровенные ему по ночам рассказывал, его тайны внимательно слушал… А тайны душевные, по секрету кому-то доверенные, людей сближают лучше всего: это давно известно.
Приблизив к себе Андрея, по разным местам помотавшись с ним, в делах серьёзных его проверив, кабардинец-трудяга Кустов незаметно сдружился с первогодком-Мальцевым, душу родственную в нём подметив, так что к концу первого рабочего срока, несмотря на разницу в возрасте, они уже были друзья. И так и остались друзьями на все пять студенческих лет, и даже и по окончании учёбы неоднократно встречались. Часами болтали за пивом, молодость вспоминали, работу – и всё наговориться никак не могли: так им обоим приятно в компании друг с другом было.
Со временем жизнь разделила их, развела – это дело известное и понятное, хотя и прискорбное. Но память добрую в сердцах каждого она не стёрла!…
12
С другим бригадиром, Орловым, отношений у Мальцева не было никаких, или почти никаких, если сказать точнее, хотя и проработали они на стройке бок о бок целое лето, даже и жили в одной комнате. И пусть был Орлов всего-то на год старше Андрея, по возрасту – молоденьким парнем, в общем-то, – однако ж держал себя со всеми так, будто бы был в отряде самым старым, самым авторитетным и тёртым, мудрым и многоопытным.
Виной тому был его социальный статус, высокое Юркино положение в мiру – и барское воспитание, безусловно, что из того положения мощной струёй вытекало. А статус и положение определял отец, заместителем министра работавший какого-то там министерства, а до этого – дед, отец отца, что, по слухам, тоже высокие посты занимал в правительстве.
Поэтому барин Юрка, с министрами с малых лет знакомый, на коленках сидевший у них, в гости с родителями к ним регулярно ездивший, Юрка к себе в наперсники мало кого допускал: в ССО “VITA”, во всяком случае, у него товарищей близких не было, одни знакомцы… Но, не смотря ни на что – не смотря на барство его прирождённое и аристократизм, гордыню его непомерную и порою коробившее Андрея высокомерие, – парнем он был удивительным – каких поискать! – на все сто процентов оправдывавшим свою крылато-небесно-заоблачную фамилию. Был красивым и внешне и внутренне, умным, решительным, отчаянным и дерзким до глупости, на свете не боявшимся никого, на всех сверху вниз смотревшим. Как смотрят с небес голубых на людей благородные птицы орлы, которым Юрка был “не чужой”, с которыми, хочешь, не хочешь, он на века “сроднился”.
Масштаб и качество его личности поражали Мальцева, как поражали Андрея всегда величина его дарований, крепость духа и широта интересов. Ещё в Москве, не будучи бойцом стройотряда, а только-только на первый курс поступив, Андрей и тогда уже знал про Орлова, слышал про него в институтских коридорах не раз, что есть-де на их факультете студент один удалой: отчуга, герой и сорвиголова каких мало. И далеко-де за пределы МАИ молва про него разносится.
Потом, когда Андрей с ним на субботниках уже познакомился и внимательно рассмотрел, поближе паренька узнал и поблагодарил судьбу за такое знакомство, – он убедился воочию, лично, что всё оно так и есть, и слухи восторженные про Орлова не зря ураганом кружатся. И красавец он был, и удалец-молодец – из тех, с кем и жить легко, и умирать не страшно…
Про Юрку ребята из стройотряда Андрею много чего диковинного рассказали: как оказалось, у многих он был кумир. Но всё же более всего первокурсника Мальцева из услышанного поразило то, например, что ещё пару-тройку лет назад, до института то есть, был Орлов футболистом отменным, заядлым, воспитанником старой торпедовской школы, успевшим поиграть даже и за дубль своей родной команды год и звание кандидата в мастера спорта себе там получить, высокое в футболе звание. Не удивительно, что он лично знал в “Торпедо” почти всех игроков своего поколения, прославившихся затем на футбольных полях – и советских, и европейских. Но в десятом классе он выбор должен был сделать: либо в футбол продолжать играть, высот намеченных добиваться, либо с футболом “завязывать” и в институт поступать, профессию получать надёжную и серьёзную… Он подумал-подумал – и выбрал МАИ. Сам ли, или по родительскому приказу – не столь уж было и важно. Поступил легко на факультет самолёто- и вертолётостроения, как однокурсники про него говорили, что свидетельствовало о том, что и в школе он без особых проблем учился.
Став студентом МАИ, он футбол не забыл, играл в него постоянно: и за сборную института, и у себя во дворе, играл и за ССО “VITA” неоднократно – так играл, что на его игру вдохновенную вся деревня смотреть сбегалась, все деревенские парни и девушки. Такие пируэты выделывал, шельмец, даже и на убогом деревенском газоне – фантастика! Горел во время игры, по полю факелом ярким бегал – глаза всем своею игрою слепил: футболистом был милостью Божьей. Футбол, вероятно, был его самой большой, самой главной по жизни страстью: играя, он отдыхал, от житейской хандры выздоравливал, ну и накопившееся напряжение попутно сбрасывал, гоняя по полю мяч. Мог классно бить по мячу с обеих ног, голы забивать как угодно и на любой вкус: и с лёта, и ножницами, и через себя. Мог, стоя на одном месте, по нескольку человек обводить и дурачить: дриблёр был виртуозный, отменный… Бегунком он вот только не был: бегать быстро и долго совсем не умел. Лёгкие слабые были, а может и сердце, – из-за чего, вероятно, зная за собой слабость такую, он и оставил большой футбол: понял, что многого в нём не добьётся… Но зато уж мячом он распоряжался выше всяких похвал, не хуже всегдашних кумиров своих, Стрельцова или Воронина, про филигранное мастерство которых часами мог говорить, захлёбываясь от восторга, которых боготворил безмерно и безгранично – как христиане – Иисуса Христа, мусульмане – пророка Мухаммеда, а буддисты – Будду. Андрей те рассказы Юркины, которые слышать ему довелось, потом на всю жизнь запомнил, слово в слово: такими живыми и красочными, и предельно эмоциональными они были всегда.
«Надоели вы мне со своим Пеле! Подумаешь, король футбола! – в запале кричал он однажды на собеседников, например, когда разговор в сырлипкинском общежитии про футбольных звёзд вдруг зашёл: кто из них лучше-де, а кто хуже. – Да не посади самолично придурок-Хрущёв нашего Стрельцова в тюрьму за неделю до чемпионата мира в 1958-ом году, не устрой около-футбольная мафия против Стрельцова заговор, – знали бы вы тогда про своего бразильца хвалёного! в какой бы он заднице был! Наш Эдик на таком подъёме тогда находился: по несколько мячей за игру заколачивал в чемпионате страны, на поле чудеса творил, каких никто до него и не видывал! Ему на чемпионате мира все лавры пророчили специалисты спортивные, все титулы самые громкие как самому лучшему, самому техничному игроку предрекали, все победы: приедет, думали, всех “порвёт”; не человек, говорили, машина. Про сопливого Пеле тогда и не заикался никто, его на фоне Стрельца специалисты в упор не видели… И сборная наша в 58-ом чемпионом мира стала бы – однозначно могу об этом сказать, с гарантией! Там один Стрелец всех бразильцев и немцев пораскидал бы, один! А ведь там были ещё и Воронин, и Иванов, и другие талантливые ребята: мечта была, а не сборная! Куда там было кому-то до нас! – всех бы пораскидали и заткнули за пояс!… Дельцы от футбола знали об этом, чувствовали, что всё оно так в точности и произойдёт: ведь Стрельцов с Ворониным и Ивановым тогда на футбольном поле не играли, а царствовали, как катком проходились по всем, или бульдозером. Вот и посадили их заводилу от греха подальше по откровенно надуманному обвинению: гнида-Хрущёв, сука гнилая, продажная, приказом собственным посадил; у него, м…дака, других дел и забот кроме футбола будто бы не было… Представляете, на каком уровне валили нашего Эдика! – на уровне руководителя государства: чтобы уж было наверняка, чтобы он, бедолага, от них никуда не сорвался!… А всё оттого это происходит из раза в раз, и теперь, и тогда, что никому наша сборная не нужна и даром на пьедестале почёта, никому не нужны великие русские футболисты, русские достижения и победы, самобытный русский футбол… А вы мне тут про Пеле талдычите да про Гаринчу, не зная про около-футбольную мафию ни хрена, про закулисные козни около-футбольные! Молчите лучше, не злите меня! не разевайте рты поганые!»
Умный был Юрка парень, словом, хоть и горячий, во многих делах сведущий, знакомый с изнанкой дел, с пружинами тайными и течениями. А всё оттого, что высоко летал и далеко с той своей высоты видел…
По характеру был он человеком открытым, прямым, которому чужды были всегда под’ковёрные игры и склоки. Если он тебя полюбил – хорошо: ты для него друг-приятель до гроба. Но коли ты ему насолил чем-нибудь или просто не приглянулся – всё, плохи твои дела: он со свету тебя сживёт ежедневными колкостями и насмешками.
И холуёв с дураками он терпеть не мог, угодников-карьеристов; не выносил условности всякие, трафареты, систему, что тоску на него наводили и уныние жуткое, прямо-таки бесили и изводили его. Он заболевал от дураков и систем: они, как палочки Коха, будто кровь его молодую гноили и портили… Потому-то он с вызовом дерзостным вечно и жил, этаким бунтарём-одиночкой: всё силился окружавшую его мертвечину и косность разрушить, и тем самым жизни дорогу дать, новизне, даровитости, созиданию, свету; а паразитов и хамов тупоголовых под ноль извести, что мир только гадят и портят.
Ну, извести – это ладно: быстро это не делается. А вот пристыдить-оконфузить кое-кого, чесаться, краснеть заставить – это у него получалось прекрасно: тут с ним сравниться никто не мог. От выходок его удалых людишки словно от блох порточных чесались…
Так, он был единственным бойцом в отряде, кто, например, командира по фамилии всегда звал – как человека, то есть, чем-то сильно ему досадившего. Кто мог на собрании принародно всю правду Шитову в глаза откровенно сказать, разругаться с ним вдрызг, в пух и прах, на место командира как пацана поставить – чтобы тот палку особенно-то не перегибал, высоко не заносился порою… И командир побаивался его, что было заметно со стороны и невооружённым взглядом, – потому что не мог приструнить Орлова: выгнать или рублём, как других, наказать, зарплату урезать вдвое. Знал, во-первых, что не за вознаграждение Юрка работать ездил, не только и не столько ради него, и деньги, как правило, не считал, не трясся как остальные над ними – относился к деньгам как к мусору. А работал выше всяких похвал: качественно и надёжно работал. И мог за себя постоять, во-вторых, при случае мог и рыло кое-кому начистить, имел такую возможность… Вот и терпел его командир скрепя сердце в отряде, выносил его колкости и издёвки… А куда было ему деваться-то, куда?! Терпи, казак, как в народе у нас говорят, – атаманом будешь.
И на председателя колхоза Юрка зверем кидался порой, если тот обещаний не выполнял, и на директора школы – тоже. И те сторонились и опасались его, духовитого и боевитого москвича: чувствовали за ним правду-матку и силу.
Приструнить же Орлова в принципе было нельзя. Его невозможно было заставить жить по шаблону и по уставу – как все остальные жили. Для него это было смерти сродни: делом постыдным, утомительным, скучным… И примеров тому – миллион, которые все не упомнишь и не перескажешь. Поэтому приведём здесь один, самый простой и самый что ни на есть ничтожный; но зато и самый понятный читателю, что Орлова как нельзя лучше характеризовал, натуру его бунтарскую во всей её удалой широте и наготе показывал.
Итак, чтобы выделиться из общей массы и не быть “как другие”, “как все”, он всё лето на стройке в семейных трусах как африканец ходил (бус только ему не хватало) и даже бравировал этим: а почему бы, дескать, и не походить, ежели мне того хочется и мне так удобно? Где написано, в каких указах, что в трусах-де студентам-строителям ходить нельзя? – покажите мне те указы. Хочу и хожу – и никто мне ничего не сделает.
В этих трусах разноцветных он и на почту, не стесняясь, заглядывал, и в магазин, в очереди там со всеми вместе выстаивал, лениво почёсывая свою волосатую грудь, плечи, пупок мохнатый. Чем приводил деревенских совершенно диких и неразвитых мужиков и баб, спецовками, кофтами вечно укутанных, шалями и платками, в нешуточное волнение и смущение, в великий, можно сказать, конфуз. Ибо такого крутого стриптиза они и за целую жизнь не видели, “такой порнографии” по их словам; как не видели они никогда, вероятно, и такого холёного молодецкого тела.
Мужики и бабы носом похабно хмыкали, хихикали и смущались дружно, густо краснели, дёргались и суетились в очереди, как по команде отводили на сторону глаза, до краёв заполненные, если б внимательно присмотреться, различными пикантными ассоциациями, в зависимости от фантазий. А столичному насмешливому стриптизёру всё было как с гуся, всё было в радость и в кайф: он прямо-таки расцветал оттого, что конфузил-дразнил их всех, спокойствие их нарушал природное, вековое, миропорядок…
Трусами своими семейными, в цветочек, он не только в деревне народ смущал, но и в Первопрестольной тоже, потому как даже и там один раз вздумал в них в футбол поиграть – за сборную института! Он тогда свою сумку с формой дома забыл по какой-то причине: загулял у кого-то, парень, или ещё что, – а игра была очень важная, на первенство вузов Москвы. А он в футбольной команде капитаном был как-никак со второго курса, центральным полузащитником к тому же, диспетчером. И без него студенты играть ни в какую не соглашались, на поле мальчиками для битья становиться. Им с МВТУ им.Баумана предстояло играть – серьёзной крепкой командой… Ну и стали, значит, товарищи-футболисты Орлову всем миром форму искать-собирать: футболку нашли подходящую, бутсы, трусы, носки; нашли даже щитки и гетры.
Всё это Юрка тогда на себя напялил без удовольствия, а вот трусы чужие, ношенные, наотрез одевать отказался: «я вам что, подзаборник что ли, в чужом исподнем белье ходить», – сказал зло. И вышел играть в своих – семейных – на потеху публики. «Слышь, Орё-ё-л! – кричали ему с трибуны смеющиеся однокашники, – а чего это у тебя трусы-то такие интересные – цветные и широкие как парашюты?! Чтобы быстрее бегать, что ли?! лучше играть?!» «Да нет! – орал им в ответ капитан сборной на весь стадион. – У меня просто яйца большие – как у слона: в казённые трусы не вмещаются!…»
Мальцев такой диалог собственными ушами слышал, сидевший на стадионе. Видел, как раскатисто и похабно гоготали на трибунах зрители после Юркиных слов, как густо покрывались краской стыда молоденькие студентки, пришедшие после лекций за свой институт поболеть. Покрываться-то они покрывались – но на озорника-Орлова после таких его ответов особенно долго смотрели, особенно заинтересованно и внимательно. Вероятно, всё силились рассмотреть и предугадать – правду ли он говорит? не врёт ли, мерзавец и хвастунишка, про свои мужские достоинства?…
Подобное Юркино вызывающе-дерзкое поведение в деревне особенно отчётливо проявлялось, до неприличия контрастно и ярко. Ибо деревня – это ни с чем не сравнимый мир, полный антипод городскому, где условности и шаблоны разные даже и в мелочах присутствуют, где проявления вольности и либерализма не приветствуются совсем, а инакомыслие и гордыня категорически осуждаются и подавляются. А Юрка боролся с порядками и ханжеством деревенским с первого дня, сознательно пытался внести в размеренную жизнь крестьян пофигизм столичный, разброд и сумятицу.
Его борьба героическая и упорная не на одно одеяние распространялась: не одними трусами и голым пупком он традиции местные рушил, устои незыблемые разлагал, – но и на клуб, конечно же, тоже. Там он, бузотёр прирождённый, отчаянный гордец-удалец, дебоширил и скандалил вечно, с парнями местными цапался из-за ерунды, за дураков неотёсанных считая их, в глаза им о том заявляя дерзко… Распространялась его борьба и на баню ещё, про которую надо особо сказать, не пожалеть бумаги.
Та баня, где мылись студенты, возле бывшего барского пруда стояла, родниковой водой подпитываемого, мимо которого дорога просёлочная пролегала, что соединяла деревню с коровниками. Дорога эта пустовала редко: по ней целый день доярки ходили со скотницами дуда и сюда, краснощёкие дочки их, которые машинально замедляли шаг, а то и вовсе останавливались и на баню смотрели и лыбились, похабно разинув рты, когда там столичные хлопцы парились, шумели-буйствовали вовсю. И получалось, что эта дорога злосчастная для молодых москвичей большим неудобством сразу же стала: не давала она им, распаренным, голышом на улицу выскочить и с головой окунуться в пруд, остудиться там как положено в ледяной воде, в чувства себя привести, в нормальное до-банное состояние.
Неудобство такое всё тот же Орлов ликвидировал, который париться с шиком любил – с бассейном, душем Шарко, массажем. Уже в первый свой приезд в стройотряд, в субботу первую он, перегретый в тесной парилке, деревянную дверь широко распахнул и, прокричав: «чего это я должен здесь кого-то стесняться», – голышом на улицу выскочил. Разбежался и плюхнулся в пруд, и плавал в пруду минут десять, не обращая внимания на остолбеневших баб, что, поражённые и гогочущие, на дороге тогда столпились густо. «Прыгайте ко мне, чудаки! – махал он, довольный, руками застывшим в дверях парням, с завистью за ним наблюдавшим, как он в пруду родниковом барахтается. – После парилки в пруд окунуться – святое дело! Точно вам говорю!… А бабы пусть на нас поглядят, коли им интересно! пусть полюбуются! Когда ещё они таких мужиков-то увидят? и где? Вот и доставьте им удовольствие»… Товарищи его подумали-подумали, животы свои мокрые почесали – и тоже на улицу повыскакивали нагишом, кинулись в пруд обмываться. И потом это у них уже в привычку вошло: на проходивших девок и баб они внимания уже не обращали.
Зато бабы обращали внимание на парней, да ещё как обращали! Половина из них, от холостых до замужних, прознав про такое мытьё, уже принялись по субботам в ближайших кустах как в театральных ложах места занимать – чтобы за купающимися студентами потом сидеть и подглядывать. Студенты подмечали это, слышали шёпот восторженный, тихий смех рядом с баней и прудом, – но купаний своих освежающих не прекращали; наоборот, выскакивать стали, без-стыдники-озорники, на улицу по нескольку раз – чтобы законспирированным зрительницам удовольствие по полной программе доставить…
Председатель колхоза Фицюлин говорил командиру про такой бардак и разврат, на без-платные порнофильмы больше похожий, просил по-дружески повлиять на студентов, приструнить чуток их. Но Шитов так и не смог те купания банные прекратить: сладить с бедовым Орловым он был не в силах…