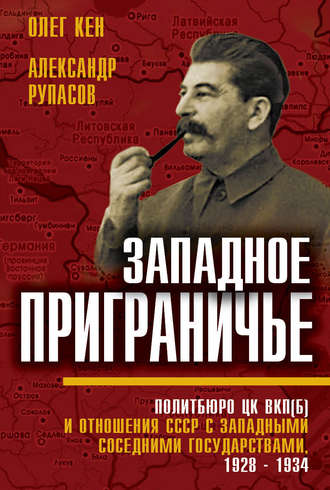
Александр Рупасов
Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934
Июльская манифестация общности интересов и принципов поведения стран региона дополнилась беспрецедентной акцией – путешествием в Польшу заведующего Бюро международной информации ЦК ВКП(б) К. Радека для переговоров с уполномоченным Пилсудского и осведомительных бесед с руководителями правящего блока и оппозиционных партий. Сделанное им предложение о налаживании союзных отношений между СССР и Польшей было расценено Бельведером как преждевременное, тем не менее, эмиссар Сталина возвратился в Москву с убеждением, что лишь революционный кризис, способный вызвать «животный страх за свои головы», и «решительное поражение Польши в войне с Германией» могут «толкнуть Польшу против нас»; «вне этих двух возможностей налицо реальная возможность дальнейшего нашего сближения с Польшей, хотя процесс этого сближения может носить затяжной и противоречивый характер». Используя франко-польские противоречия и решимость руководителей Польши не допускать «подчинения польских интересов французским», Москве следует «не делать ничего, что могло бы задеть польское самолюбие. Путь в Варшаву идет не через Париж, а только через Варшаву»[314]. Осенью 1933 г. советское руководство, пусть и не без сомнений, готово было признать эти утверждения в качестве ориентира внешнеполитических акций, но к весне-лету 1934 г. оно практически от них отказалось. Взяв курс на сближение с Польшей, советское внешнеполитическое руководство воздерживалось от культивирования двусторонних отношений с нею, в котором виделось ограничение собственной свободы маневра и предоставление полякам советского козыря в переговорах с Германией. Сталин и его сподвижники мрачно следили за попытками Берлина договориться с Варшавой о своеобразном моратории на разрешение конфликтов между ними и усматривали в них начало сговора о предоставлении Польше свободы рук на Украине в обмен на возвращение Германии Коридора и совместном походе против СССР. Возможно, никогда не удастся установить, в какой степени эти подозрения, разжигавшиеся разнообразными зарубежными источниками, были искренни и отражали беспокойство, в какой – служили мотивировкой давления на Варшаву, с целью заставить ее занять однозначно-враждебную позицию перед лицом Германии и тем самым поставить свое независимое существование в зависимость от доброй воли большевистской России. Своеобразной проверкой доверительного сообщения министра иностранных дел Ю. Бека полпреду СССР о намерении продолжать политическое сотрудничество с СССР явилось советское предложение о выступлении с совместной декларацией, объявляющей о заинтересованности СССР и Польши, «неприкосновенности и полной экономической и политической независимости новых политических образований, выделившихся из состава бывшей Российской империи», т. е. стран восточной Балтии. Полуторамесячные переговоры вскрыли главную цель советской акции – стремление либо соблазнить Варшаву договоренностью о «сферах влияния» и «областях интересов», либо «скомпрометировать» ее внешнюю политику и сорвать соглашение с Берлином о неприменении силы в двусторонних отношениях[315]. Подписание 26 января 1934 г. польско-немецкой декларации о ненападении и последовавший за этим отказ Варшавы от оформления договоренности с Советским Союзом о независимости Прибалтики положили конец советско-польскому сближению. Хотя на XVII съезде ВКП(б) Сталин заявил о «переломе к лучшему» в отношениях СССР и Польши, дальнейшие события показали, что первый в истории двусторонних отношений визит польского министра иностранных дел в СССР (февраль 1934 г.), придание соответствующим миссиям в Москве и Варшаве ранга посольств (март 1934 г.) и продление на десятилетний срок пакта ненападения (май 1934 г.) явились эпилогом непродолжительного rapprochement двух ведущих государств Восточной Европы.
Постепенное восстановление Польши в правах потенциального противника, нараставшее на протяжении 1934 г., сопровождалось усилением советского нажима на северном фланге расшатанного «восточного барьера». В середине января 1934 г. Политбюро впервые попыталось принять план всестороннего сближения с четырьмя балтийскими странами[316]. Натолкнувшись на несговорчивость Варшавы при продлении пакта ненападения, Литвинов сделал аналогичное предложение Латвии, Литве и Эстонии и уже двумя неделями позже вместе с посланниками этих государств торжественно подписал протоколы о продлении двусторонних пактов ненападения до 31 декабря 1945 г., указывая: «Досрочно выкупленный вексель свидетельствует как о доброй воле, так и о блестящем финансовом положении векселедателя»[317]. В результате этого маневра традиционным притязаниям Польши на руководящую роль в Балтийском регионе был нанесен сильный удар[318]. В отношении польско-литовского конфликта весной 1934 г. Москва пыталась наметить средний курс: после некоторого сопротивления, она все же согласилась обесценить советско-польским протоколом 5 мая письменные заверения Литве 1926 г.; «джентльменское соглашение» было фактически возобновлено, но поставки Литве вооружений и военного имущества неоднократно откладывались[319]. Гораздо труднее складывались отношения СССР с Румынией и Чехословакией, несмотря на то, что их полная нормализация была предрешена. Н. Титулеску не торопился, надеясь подтолкнуть Москву к свертыванию коммунистической активности в Бессарабии; НКИД тем временем безуспешно пытался помешать заключению Балканского пакта с участием Румынии. Женевская встреча Титулеску с Литвиновым весной 1934 г. не состоялась из-за болезни наркома. Чехословакия, не желая нарушать сплоченности Малой Антанты, откладывала проявление инициативы об установлении полных дипломатических отношений до коллективного решения всех участников этого объединения. Ее мартовское предложение начать торговые переговоры с СССР было расценено Москвой как желание «получить от нас компенсацию в форме торгового договора за неизбежное уже восстановление дипломатических отношений» и отвергнуто[320]. За сдержанностью советской дипломатии в отношении этих стран (как и за ее жесткими требованиями к поведению Польши и неослабным наблюдением за положением в Прибалтике) стояли не только возросшая уверенность в своих силах, но и неопределенность относительно поведения великих держав, сомнения в правильности взятого курса[321].
После выхода Германии из Лиги Наций процесс советско-французского сближения вошел в стадию подготовки совместного плана обеспечения региональной безопасности. В декабре 1933 г. Политбюро ЦК ВКП(б) постановило: «СССР не возражает против того, чтобы в рамках Лиги наций заключить региональное соглашение о взаимной защите от агрессии со стороны Германии» и «согласен на участие в нем» Чехословакии, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии. Участие в таком соглашении, известном позднее как «Восточное Локарно», Франции и Польши рассматривалось как «обязательное» условие дальнейших переговоров, инициатива которых предоставлялась Парижу[322]. Вскоре Сталин публично сообщил о готовности СССР если не вступить в Лигу Наций, то отныне рассматривать ее как организацию, способствующую предупреждению войны. Долгая пауза в диалоге с Парижем (январь-апрель 1934 г.) и срыв советско-польских переговоров о балтийской декларации сопровождался характерным зигзагом в сторону германо-советского взаимопонимания. Его предлагалось облечь в форму протокола, согласно которому правительства СССР и Германии обещали «неизменно учитывать в своей внешней политике обязательность сохранения независимости и неприкосновенности» Прибалтийских стран[323].
Отказ Берлина принять это двусмысленное предложение и намерение Парижа возобновить подготовку «Восточного Локарно» вернули советскую дипломатическую активность в русло антиревизионистской политики. В середине мая 1934 г. главы внешнеполитических ведомств Л. Барту и М.М. Литвинов согласовали схему, в соответствии с которой Германии, Польше, Чехословакии, Литве, Латвии и Эстонии предлагалось заключить с СССР региональное соглашение о взаимной помощи в случае агрессии одного из его участников (Восточный пакт). Франция выступала гарантом выполнения этого соглашения Советским Союзом и Германией, тогда как СССР брал на себя такое же обязательство в случае нарушения Францией или Германией Локарнского пакта[324]. По желанию Москвы, французское правительство не только приняло на себя обязательства обеспечить согласие с этим проектом гарантов договора 1925 г. – Великобритании и Италии, но и вести переговоры с предполагаемыми участниками Восточного пакта. В конце мая-начале июня, когда французская дипломатия приступила к их оповещению, нарком иностранных дел согласовывал с румынским и чехословацким министром формулировки нот о взаимном признании, которыми они вскоре обменялись как уполномоченные своих правительств. Обмен конфиденциальными нотами между СССР и Чехословакией зафиксировал обоюдный отказ от взаимных имущественных претензий, связанных с войной и революцией[325]. Для советско-румынских отношений решающее значение имел обмен заявлениями о строгом и полном соблюдении суверенитета другой стороны[326]. Фактический (а в отношении ЧСР – и формальный) отказ Москвы от тезиса о существовании спорных вопросов между СССР и двумя странами Малой Антанты подкреплялся обязательством воздерживаться от «прямого или косвенного» вмешательства во внутренние дела другой стороны, содержавшимся в конфиденциальных нотах. Таким образом, «вторая волна признания» 1934 г. принесла Москве окончательную нормализацию отношений с Чехословакией и Румынией, что проложило путь переговорам 1935–1936 гг. о военно-политическом союзе СССР с этими странами.
К лету 1934 г. советская политика в отношении западных соседних государств во многих отношениях совершила полный оборот. Зимой 1928–1929 г., приступая к переговорам о Московском протоколе, советская дипломатия и советское руководство терзались сомнениями относительно допустимости «многостороннего» (тройственного) варианта соглашения с Литвой и Польшей. В конце 1933 – середине 1934 г. оно настаивало на включении в региональное соглашение всех западных соседних государств (кроме Румынии, участие которой изменило региональный характер проекта и вовлекло бы в него противоречивые балканские и средиземноморские интересы). От обязательств негативного характера (отказа от войны как орудия национальной политики, ненападения) СССР перешел к активной политике за заключение соглашений о взаимной помощи в случае агрессии. Последовательные усилия по вытеснению английского и французского влияния по периметру западной границы Советского Союза переросли в сотрудничество с французской, а с лета-осени 1934 г. – и английской, дипломатией, использованию их позиций в Восточной Европе для обеспечения советских внешнеполитических интересов. Ставка на дестабилизацию послевоенного урегулирования в регионе, прямое и косвенное оспаривание законности суверенитета Польши и Румынии над всей территорией этих государств, откровенный скепсис в отношении возможности независимого существования Чехословакии и балтийских стран уступили место защите территориального статус-кво. Концепция «санитарного кордона» перелицовывалась и примерялась для собственных нужд[327]. Из «восточного барьера» страны, расположенные между Черным и Балтийским морями, превращались для Москвы в «западный барьер», ограждающий СССР от главного очага европейского конфликта. Наконец, от неподдельной озабоченности угрозой своим интересам со стороны западных соседних стран развивший свой военный и промышленный потенциал Советский Союз перешел к линии на установление опеки государственных интересов стран Прибалтики, Чехословакии и, ранее всего и с очевидным отрицательным результатом – Польши. Из региональной державы Советский Союз стремительно вырастал в европейскую и мировую, свысока поглядывающую на «малых сих».
Гибкость и реализм, проявленная советским руководством при трансформации своего международного поведения в 1929–1934 гг., были связаны с отсутствием «великого плана» внешней политики, разработанной системы ее принципов, что, с другой стороны, порождало нестабильность новообретенных ситуативных установок. Некоторые из них, опиравшиеся на возросшие социально-политическую прочность и экономико-военные возможности Советского Союза, подкрепленные имперской традицией, укоренились в советской политике в отношении восточноевропейских соседей. Другие, связанные с потребностями тесного международного сотрудничества для защиты статус-кво, оказались в значительной мере функцией преходящей констелляции европейской и мировой политики. В процессе впечатляющей эволюции советской политики к середине 30-х гг., подходы предшествующего периода отодвигались, но не отбрасывались. Возвращение к ним зависело от «соотношения сил» и «политической целесообразности».
* * *
Общие внешнеполитические установки советского руководства, непризнание легитимности участия СССР в европейских делах привели к тому, что усилия СССР в конце 20 – середины 30-х гг. были сосредоточены не столько на поиске политического партнерства с теми или иными государствами, сколько на обеспечении безопасности от них. Сотрудничество с внешним миром в области культуры, осложненное идеологической нетерпимостью, сводилось главным образом к дискретному «культурному обмену», зависевшему от малейших изменений политической конъюнктуры. Поэтому единственной областью, в которой Москва обнаруживала волю к позитивному взаимодействию с окружающим миром, оказались внешнеэкономические связи.
Монополия внешней торговли, казалось, предоставляла советскому руководству уникальную возможность выстраивания системы хозяйственных связей с зарубежными странами и ее координации с внешнеполитическими приоритетами СССР, позволяя отступать от сбалансированности торгового оборота с отдельными странами, компенсируя отрицательное сальдо в торговле с ними положительным балансом в торговле с другими[328]. В том же направлении действовали экономико-географические факторы: разнообразие потребностей и размеры внутреннего рынка, характерная для него удаленность производителей от потребителей (усугубляемая транспортными проблемами), сходство номенклатуры импорта СССР с запада и его экспорта на восток[329]. В рамках общей советской политики в отношении своих западных соседей эти преимущества оказались использованы в незначительной мере, а надежды их хозяйственных кругов на восстановление и развитие существовавших до распада Российской империи хозяйственных связей[330] – иллюзорны. Материалы протоколов Политбюро свидетельствуют, что круг постоянных забот советского руководства ограничивался преимущественно контактами с главными мировыми рынками. Действительно, объемы советской торговли с восточноевропейскими соседями были крайне невелики. Ее подъем в первой половине 20-х гг. оказался непродолжительным; во многом он основывался на оказании посреднических услуг, в которых СССР по мере установления торговых отношений с главными экономическими партнерами (Германия, Англия, Франция, США и др.) испытывал все меньшую нужду. Деятельность концессионных предприятий никогда не играла существенной роли в хозяйственных связях с восточноевропейскими странами и завершилась к началу 30-х гг.[331]. Другие, менее традиционные формы экономического взаимодействия (соглашения о квотировании экспортных поставок на мировой рынок; соглашения о сплаве леса по пограничным рекам; транзит экспортируемых и импортируемых СССР товаров через территорию Польши, Литвы, Латвии), хотя временами привлекали повышенное внимание Политбюро, также занимали периферийное по отношению к двусторонней торговле место[332].
Начало хозяйственной реконструкции привело к незначительной интенсификации внешнеторговых связей СССР. С 5 млрд. рублей в 1925–1926 гг. внешнеторговый оборот вырос до 7,3 млрд. рублей (свыше 70 % от объема предвоенного 1913 г.) в 1930 г., с 1931-32 гг. произошло резкое сокращение его объемов (до 2,3–2,1 млрд. рублей в 1934–1938 гг.)[333]. Точное выявление роли и места в этом процессе торговых связей СССР с западными соседними государствами сопряжено с почти неразрешимыми трудностями, тем не менее официальная советская статистика позволяет придти к выводу об их незначительности в торговом обороте СССР.
Диаграмма. Торговый оборот СССР с Польшей, Финляндией, ЧСР и Румынией в сравнении с его общим внешнеторговым оборотом в 1929–1934 гг.[334].

Основными торговыми партнерами восточноевропейских государств, как и самого СССР являлись главным образом Германия и Великобритания. Во внешней торговле Финляндии, например, Советский Союз занимал лишь четвертое место:
Таблица. Распределение внешнеторгового оборота Финляндии по странам (в процентах)[335]

Существенно большее место в конце 20-х – начале 30-х гг. занимали связи с СССР в торговом балансе Латвии: в 1931–1932 гг. на него приходилось 9,0—10,2 % латышского ввоза и 16,7—18,0 % вывоза[336]. Во внешнеторговом обороте «дружественной» Литвы доля Советского Союза в начале 30-х гг. составляла от 1,5 % (в ее импорте) до 6 % (в экспорте)[337], в торговле Эстонии (1930 г.) 9,3 % и 4,5 % соответственно[338].
Причины столь обескураживающего итога попыток налаживания хозяйственных связей СССР со своими соседями были многоплановы. Основную роль при этом играла слабая взаимодополняемость национальных экономик, малая конгруэнтность хозяйственных потребностей, нехватка капиталов для кредитования двусторонней торговли. Стремление СССР снизить издержки на транспортировку ввозимых товаров и стран-лимитрофов – поддержать за счет советских заказов отечественную промышленность нередко наталкивались на низкое качество производимых в них промышленных изделий, изношенность производственных фондов, дефицит квалифицированной рабочей силы[339]. Поставляя на мировой рынок главным образом сырье и полуфабрикаты восточноевропейские страны сталкивались с аналогичной направленностью советского экспорта[340]. Попытки изменить характер вывоза в соседние государства осложнялись малой емкостью рынков для предлагавшихся СССР промышленных товаров (сельскохозяйственные машины, текстиль, строительные материалы, резиновые изделия) и низким качеством многих из них[341]. Стремление сохранить за собой часть рынка сельскохозяйственных машин в странах Балтии и Польше заставляло советские внешнеторговые организации и НКВТ прибегать к реализации своей продукции «путем встречных сделок на сельскохозяйственные продукты и сырье», иными словами «путем товарообмена»[342], что, разумеется, не удовлетворяло советское внешнеторговое ведомство, заинтересованное в маневрировании валютной выручкой[343].
Кроме того, потребность Москвы в кратко- и среднесрочном кредитовании закупок (и возможность получения таких кредитов в развитых индустриальных странах) приходила в противоречие со скромными возможностями национальных финансов и недостаткам средств для собственных инвестиций. Печальная шутка министра финансов Польши И. Матушевского о своей стране как о «капиталистическом государстве, но без капиталов» была, хотя и в различной степени, применима ко всем соседним с СССР государствам. Опыт использования специально создававшихся смешанных банков (например, Транзитный банк в Риге) положительного эффекта не дал, аккумулируемые таким образом средства нередко использовались не по назначению. Для кредитования закупок в странах Балтии советские хозяйственные органы были вынуждены привлекать средства государственного Промышленного банка (созданного в середине 20-х гг. для иных целей). Наиболее крупной (и отчасти успешной) попыткой преодолеть дефицит кредитных ресурсов для финансирования двусторонней торговли явилась восьмилетняя деятельность созданного в 1926 г. советско-польского акционерного товарищества «Совпольторг». Польская сторона была представлена в нем обществом «Польросс», большая часть акций которого принадлежала государственному Польскому банку. Широкое соединение двусторонних торговых сделок с посредническими операциями, организацией на советской территории предприятий для дополнительной переработки («облагораживания») экспортируемых в Европу товаров позволяли «Польроссу» и «Совпольторгу» кредитовать советский импорт из Польши. Вместе с тем эти операции вызывали растущее недовольство советских ведомств, с 1930 г. неоднократно планировавших ликвидацию этого общества. Окончательное решение об этом было принято в начале 1934 г.[344]
Вторая группа трудностей состояла в своеобразии общей экономической политики СССР, особенно после вступления в фазу форсированной индустриализации. Стремительный рост городского населения при фактическом развале сельского хозяйства подталкивал к наращиванию закупок продовольствия в соседних государствах. Для всех из них (кроме ЧСР) именно сельскохозяйственные товары являлись основной группой экспорта. Продовольственный кризис в СССР совпал по времени с мировым аграрным кризисом, в 1929–1933 гг. понизившим индекс цен на 20 главных сельскохозяйственных товаров более, чем в два раза (со 100 до 48,8 пунктов). Цена главного экспортного товара Латвии – масла – в 1929–1930 гг. упала на 70 %, румынской пшеницы – на 60 %[345]. Использование этой конъюнктуры для смягчения голода на продовольственные товары допускалось советским руководством лишь в незначительной мере, преимущественно в тех случаях, когда в силу географических и транспортных условий снабжение городских центров (в первую очередь, Ленинграда) было заведомо выгоднее организовать с привлечением иностранных поставщиков[346]. Жертвой режима строгой экономии и централизованного использования валютных фондов (породивший, среди прочего, постановления Политбюро об ассигновании 372 ам. долларов[347]) стал и рынок непродовольственных потребительских товаров. Их закупки за рубежом в 1931–1933 гг. были свернуты, что прямо задевало торговый обмен с соседними странами.
Наконец, в начале 30-х гг. СССР стал испытывать трудности с поставками за границу традиционных экспортных товаров, ставших остродефицитными и на внутреннем рынке. Уже в декабре 1929 г. Политбюро «предложило НКТоргу СССР сконцентрировать всю экспортную работу по Западной Европе на основных рынках сбыта, прибегая к реализации на второстепенных рынках в случае крайней необходимости»[348]. Советским экспортерам пришлось, в частности, отказаться от планов завоевания рынков нефти и нефтепродуктов в соседних европейских странах. Этими обстоятельствами в значительной степи были продиктованы денонсация советско-латвийского торгового договора 1927 г., невыполнение условий торгового договора с Эстонией 1929 г., отклонение инициатив литовского правительства, направленных на заключение торгового договора между Москвой и Каунасом.
Рука об руку с общеэкономическими факторами и внешнеторговой стратегией советского руководства шли низкие эффективность структур и компетентность кадров, на которые возлагалось осуществление государственной монополии на торговые сношения с внешним миром. Создание в середине 20-х гг. внешнеторговых объединений (акционерных обществ) было призвано придать этой работе большую гибкость и инициативу[349], сохранив ее под началом наркомата торговли (с 1930 г. – внешней торговли). На практике это привело к несогласованности работы внешнеторговых объединений, координировать ее НКВТ был не в состоянии. В результате принимаемые решения оказывались «не всегда доступны разуму обыкновенных людей, не принадлежащих к племени Внешторга»[350]. Так, долгое время Советский Союз в значительных объемах приобретал в Чехословакии растительное сырье и животноводческие продукты, проявлял интерес к закупкам жеребцов и семян клевера, при этом «исключительно плохо зная чехословацкую технику, которая стоит на очень высоком уровне». «К нашему стыду, мы исключительно мало знали о промышленности Чехословакии и очень многие и на сегодня продолжают утверждать, что эта страна не представляет для нас интереса, – докладывал после обследования чехословацких заводов председатель объединения «Станкоимпорт». – Промышленность Чехословакии по объему значительно меньше германской и английской, но по своему техническому уровню ни в коей мере не уступает последним»[351].
Частые и порой вопиющие просчеты в работе, влекущие за собой финансовые потери, не могли не вызывать в контрольных партийных и государственных органах постоянных подозрений в «личной заинтересованности» некоторых представителей НКВТ и экспортно-импортных объединений.
Скромные размеры хозяйственных связей, жесткие пределы внешнеторговых операций, заданные «генеральной линией», низкая эффективность механизма осуществления монополии внешней торговли ограничивали возможности использования экономических связей для достижения политических целей СССР в Восточной Европе. Оставляла желать лучшего и координация деятельности органов НКИД и НКВТ (как центральных аппаратов, так и их представительств за рубежом). Все это подрывало политически мотивированные инициативы по достижению крупных изменений в торговых отношениях с соседями и, тем более, непосредственное использование этих отношений в качестве инструмента советской дипломатии. Редкие попытки Политбюро примирить соображения политической тактики и потребности хозяйственных ведомств в рамках позитивной программы экономических сношений с отдельными странами оказывались иллюзорны[352].
Для характеристики соотношения дипломатии и торговли (точнее, отсутствия координации между ними) особенно показательны взаимоотношения СССР с Польшей. На протяжении 1929–1934 гг. в торговле с нею Советский Союз имел пассивное сальдо, причем весьма значительное – как в абсолютных цифрах, так и по его удельному весу в двустороннем обороте (по разным данным, он составлял от 40 % до 60 %)[353]. Из года в год соглашаясь с перекосом двустороннего торгового баланса, советское руководство не получало от этого никаких осязаемых выгод в области политических взаимоотношений с главной соперницей СССР в Восточной Европе (не считая неустойчивого влияния советских заказов на настроения части предпринимательских кругов Польши). Нами не обнаружено и указаний на то, что Политбюро ЦК ВКП(б) или советские органы, причастные к определению задач внешнеэкономической деятельности, преследовали при этом конкретные политические цели. Когда хозяйственная конъюнктура ставила в порядок дня возможность получения побочных политических дивидендов, московские руководящие инстанции терялись перед лицом всевозможных дилемм – внутриэкономического, политико-дипломатического и иного свойства. Так, анализ рыночной конъюнктуры в 1929 г. побудил торгпреда Н.В. Попова («одного из авторитетнейших наших хозяйственников») предложить наркомторгу разместить в Польше заказ текстильным предприятиям на один миллион долларов[354]. Даже на Кузнецком мосту эта идея вызвала сомнения. «С одной стороны, наш заказ лодзинской промышленности при ее тяжелом положении увеличивал бы заинтересованность этой промышленности в развитии мирных и добрососедских отношений с СССР, – размышлял Б.С. Стомоняков. – С другой стороны, однако, мы вряд ли заинтересованы в смягчении экономического кризиса в Польше в настоящее время»[355]. Потребовалось состояние крайней озабоченности возможностью срастания внутреннего кризиса в СССР с польским вмешательством, чтобы, следуя общей тенденции решений Политбюро по Польше в первой половине 1930 г., НКИД настоял, а член Политбюро и нарком торговли Микоян согласился «попытаться использовать» заказы на 3–5 млн. рублей «для улучшения отношений с Польшей». Речь шла об увязывании уже отпущенных НКТ сумм с потребностью в ходе варшавских переговоров о заказах, вызвать у их получателей «убеждение, что скорое заключение торгового договора обеспечило польской металлургической и металлообрабатывающей промышленности длительные крупные заказы»[356]. Вопреки договоренности двух ведомств, уполномоченный наркомторга Биткер вместо Варшавы поехал в Берлин – и «там выдал заказы». «Благодаря такой тактике, – резюмировал итоги всей акции член Коллегии НКИД, – мы не могли использовать этих крупных заказов не только в интересах нашей политики в отношении Польши, но даже и в интересах нашего экспорта в Польшу»[357].
Между тем, если отвлечься от конкретных потребностей «планового хозяйства» (и без существенного ущерба для них), существовала возможность целенаправленного использования валютных средств (например, десятков миллионов рублей, ежегодно составлявших отрицательное сальдо в торговле с Польшей и Чехословакией) для наращивания советских заказов и закупок в отдельных соседних странах ради достижения политического результата, будь то конкретные уступки или создание экономической зависимости от СССР и утверждение его влияния во внутренней жизни страны. В наибольшей степени такой эффект был достижим, разумеется, не в Польше, а в странах востока Балтии, где масштабы национальной экономики и степень воздействия хозяйственных интересов на правительственные решения создавали благоприятные условия для советского проникновения. Подобного рода идеи беспокоили воображение советских полпредов в Финляндии и других балтийских государствах. Так, в середине 1930 г., в связи с падением советско-эстонского торгового оборота Ф.Ф. Раскольников пытался доказать НКИД необходимость содействия промышленному развитию Эстонии, «не только потому, что индустриализация увеличивает численность рабочего класса, но также и потому, что индустриализация неизбежно вынуждающая Эстонию ориентироваться на советский рынок, ставит Эстонию в положение экономической зависимости от СССР, вовлекает ее в орбиту советской политики»[358]. Двумя годами позже И.М. Майский убеждал Москву в наступлении подходящего момента для того, чтобы «оторвать» от Польши и «поставить под наше влияние» государства Восточной Балтики. Для этого, полагал полпред, достаточно «рискнуть весьма небольшими деньгами» – закупать в этих странах сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 15–20 млн. рублей ежегодно. Руководство НКИД и его 1 Западный отдел скептически реагировали на такие предложения, ссылаясь на неудачные эксперименты в этой области, середины 20-х гг. «В одной Латвии мы тратили по 15 млн. рублей, – комментировали в НКИД доклад Майского. – И не купили Латвию»[359]. В специальной записке 1 Западного отдела, подготовленной для наркома, в связи с переговорами о заключении пактов ненападения с Польшей и государствами Балтии, отмечалось: «Не следует еще раз повторять попытку путем крупных экономических жертв парализовать влияние Польши, как это мы сделали в торговом договоре с Латвией. Эти жертвы не оправдывают себя»[360].



