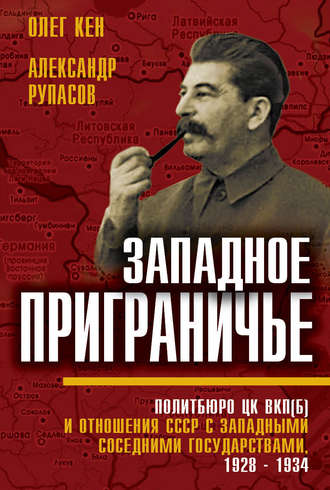
Александр Рупасов
Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934
28 марта 1929 г.
11. – О Румынии (т. Литвинов).
Предложить т. Литвинову в разговоре с румынами исходить из решения правительства СССР по бессарабскому вопросу о плебисците, обусловленном всеми гарантиями для свободного выявления населением его отношения к этому вопросу.
Выписка послана: т. Литвинову.
Протокол № 70 (особый № 68) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 28.3.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 7. Л. 54.
Обращение Литвинова в Политбюро было связано с его предстоящей поездкой в Женеву для участия в сессии Подготовительной комиссии конференции по разоружению. В конце февраля Политбюро отклонило просьбу Литвинова об «освобождении его от поездки» и на заседании 28 марта утвердило директивы возглавляемой им делегации[456]. У заместителя наркома по иностранным делам были основания ожидать, что в ходе его пребывания в Женеве Румынией и ее союзниками могут быть возобновлены попытки урегулирования советско-румынского спора о принадлежности Бессарабии. В августе 1928 г. министр иностранных дел ЧСР Э. Бенеш по поручению правительств трех стран Малой Антанты сделал полпреду В.А. Антонову-Овсеенко заявление «об их стремлении к установлению нормальных отношений с СССР». При этом отмечалось, что «препятствием к установлению нормальных отношений между Югославией, Чехо-Словакией и СССР является неразрешенный бессарабский вопрос». Двумя месяцами позже, после прихода к власти кабинета национал-царанистов во главе с Ю. Маниу, Политбюро сочло, что ситуация созрела для вручения Бенешу положительного ответа (которым, впрочем, отводилось его посредничество): «если Румыния… действительно имеет желание вновь вступить в переговоры с Советским правительством для улажения всех существующих между ними спорных вопросов, то советское правительство со своей стороны готово пойти навстречу этому желанию вступить в непосредственные переговоры с представителем румынского правительства и, выслушав его предложения, обсудить возможную базу последующих формальных переговоров»[457]. «Мы считали бы нежелательным созыв конференции для официальных переговоров раньше, чем мы договоримся о возможной базе соглашения путем полуофициальных переговоров, – уточнял Литвинов. – Такие разговоры удобнее всего начать при какой-нибудь полуслучайной встрече ответственных представителей обеих сторон где-нибудь в Европе, как, например, во время какой-либо международной конференции. Такой момент, правда, сейчас не предвидится, но, когда он наступит, мы его не пропустим»[458].
Декабрьская инициатива «быстрейшей ратификации пакта Келлога» внесла изменения в этот сценарий. В переговорах о многостороннем протоколе к пакту Келлога советская дипломатия была вынуждена фактически снять некоторые оговорки, выдвинутые ею при присоединении к Парижскому договору, т. е. отказаться от трактовки оккупации чужой территории и нежелания установить нормальные отношения с другим государством как подпадающих под понятие войны. По настоянию Румынии в текст соглашения была включена формула, подтверждающая состояние мира между государствами – участниками Московского протокола. Интерес румынских политиков к советской инициативе во многом был вызван надеждами использовать ее для «хотя молчаливого признания Россией присоединения Бессарабии» к Румынии[459]. Сразу после заключения соглашения о досрочном введении в действие пакта Келлога правительство Румынии попыталось истолковать его как окончательное признание границ Румынии, что уже 10 февраля вызвало отповедь советского официоза[460].
Со своей стороны, в беседе с румынским представителем Давилой, прибывшим в Москву для подписания регионального соглашения, Литвинов предложил организовать плебисцит населения Бессарабии для определения ее государственной принадлежности (тезис о том, что принадлежность Бессарабии Румынии может быть признана Советским Союзом лишь в случае проведения плебисцита и соответствующего волеизъявления населения Бессарабии, был впервые выдвинут в Заявлении делегации СССР на советско-румынской конференции в Вене 28 марта 1924 г.[461]). Давила отклонил это заведомо неприемлемое предложение, сославшись на отсутствие у него полномочий для обсуждения бессарабского вопроса. Заместитель наркома выразил заинтересованность в установлении «прямого канала коммуникации», минуя Варшаву, которая стремилась держать под контролем переговоры своей союзницы с СССР. В ходе беседы в качестве возможного места советско-румынских консультаций была упомянута Женева[462]. Таким образом, постановка вопроса «О Румынии», была вызвана необходимостью получения заместителем наркома дополнительных директив относительно условий для неофициальных переговоров с румынскими дипломатами, намеченных в решении Политбюро пятимесячной давности.
Точное содержание предложений Литвинова, внесенных им в Политбюро, неизвестно. Подход Литвинова к бессарабской проблеме существенно отличалась от официальной линии СССР, в определении которой выдающуюся сыграл Х.Г. Раковский. Еще в 1921 г. при обсуждении возможных уступок со стороны СССР для заключения советско-румынского мирного договора, Литвинов полагал, что ради этого допустим «отказ от Бессарабии»[463]. Эта позиция была обусловлена не только анализом международной конъюнктуры и выгодами, которые получал СССР в случае признания аннексии Бессарабии, но и принципиальным взглядом на права Румынии и ее отношения с СССР. «Вожделения Румынии в отношении Бессарабии возникли не во время империалистической войны; они существовали и раньше и составляли часть общих национальных аспирации Румынии […] Пока мы Бессарабию оспариваем, Румыния должна считать свои национальные стремления незавершенными, она так или иначе должна добиваться нашего признания аннексии; если ей не удастся это мирным путем, то рано или поздно она прибегнет к оружию», – проницательно отмечал Литвинов в полемике с Раковским[464]. По сведениям Л. Фишера (близкого в то время к НКИД и по решению Политбюро получавшего советские субсидии), в середине 1920-х гг. Литвинов продолжал отстаивать такой подход, несмотря на противодействие Чичерина и Сталина[465]. Позднее, в ходе переговоров с Румынией о пакте ненападения, Литвинов предпринимал попытки смягчить требования Политбюро относительно непризнания фактического статуса Бессарабии[466].
В марте 1929 г. Сталин просил находившегося на лечении наркома Чичерина сообщить свою оценку положительных и отрицательных для СССР сторон Московского протокола, в частности, с точки зрения советско-румынских отношений[467]. Чичерин подтвердил прежнюю позицию: «Уменьшение напряжения с Румынией очень хорошо: из-за того, что Румыния заняла Бессарабию, мы не должны наказывать самих себя и портить собственное положение, но, конечно, мы не отказываемся от плебисцита в Бессарабии». Урегулирование двусторонних отношений виделось Чичерину исключительно в виде обмена – возвращения румынских архивов (по высокомерному заявлению Чичерина, «кальсон министров, шуб, картин, любовных писем Братиану, процентных бумаг») за отказ Румынии от требования возвращения золота[468]. Письмо Чичерина, несмотря на его личный характер, было распространено среди членов Политбюро. Возможно, Сталин намеренно заручился заявлением наркома по иностранным делам перед новым рассмотрением руководством страны бессарабского вопроса.
Содержание мартовского решения Политбюро двумя месяцами позже было оглашено в докладе главы советского правительства. Относительно Бессарабии, заявил А.И. Рыков, «мы ничего иного Румынии не предлагаем, кроме честного и беспристрастного плебисцита, проведенного в условиях, исключающих давление как с той, так и с другой стороны, для выявления воли бессарабского народа»[469]. Поскольку Москва не допускала и мысли о международном контроле за проведением плебисцита, эта публичная декларация на деле лишь акцентировала пропагандистское существо решения Политбюро.
Официальная позиция СССР в бессарабском вопросе не претерпела изменений вплоть до июня 1940 г.; в ходе советско-румынских переговоров о заключении договоров о ненападении (1932 г.) и взаимной помощи (1935–1936 гг.) проблема принадлежности Бессарабии рассматривалась лишь с точки зрения возможности закрепления в соответствующих текстах имеющихся между сторонами разногласий.
11 апреля 1929 г.
10. – Об Апанасевиче (т. Стомоняков).
а) Предложить НКИД потребовать выдачи трупа Апанасевича.
б) Вскрытие трупа произвести в Минске, пригласив для этого наиболее авторитетных анатомов.
в) Объявить т. Богомолову строгий выговор с предупреждением за недопустимое поведение его и всего полпредства в связи с делом Апанасевича.
г) Считать необходимым ответить в нашей печати на кампанию в польской прессе.
д) Предложить НКИД заявить протест польскому правительству против ведущейся польской прессой злостной кампании с использованием фальшивок.
Выписки посланы: т. Стомонякову.
Протокол № 72 (особый № 70) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 11.4.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 7. Л. 66.
Решение Политбюро по делу Апанасевича переломило тенденцию к улучшению советско-польских отношений, развивавшуюся в конце 1928 г. – начале 1929 г.
4 апреля сотрудник торгпредства СССР в Польше Апанасевич, находясь проездом в Барановичах, открыл из личного оружия огонь по полицейским. После неудачной попытки самоубийства Апанасевич подвергся аресту и двумя днями позже, находясь в заключении скончался. «На основе всех сведений, которые у нас имеются, я могу сказать, что официальная польская версия о всех деталях этого дела представляется мне достаточно правдоподобной. Одержимый манией преследования, т. Апанасевич стрелял сперва в полицейских, а потом в себя», – подытоживал проведенное им разбирательство полпред в Польше. Из доклада командированного им в Барановичи консула Шахова выяснялось, что «в то время как МИД вел линию на то, чтобы, по возможности, не раздувать этого дела и представить т. Апанасевича как ненормального, власти на местах, основываясь, прежде всего, на заявлении самого т. Апанасевича, что он действовал вполне сознательно, повели линию на то, чтобы создать громкий процесс». Заинтересованность следственных органов в судебном разбирательстве делала версию о смерти Апанасевича от паралича сердца «вполне вероятной», тем более что по сведениям полпредства, он пребывал в третьей стадии такой болезни, при которой умственное расстройство, ни паралич сердца не являются необычными[470]. В польской печати 4–6 апреля появлялись неблагоприятные отклики на этот инцидент, в последующие дни они почти исчезли. На неприятную СССР публикацию в «Polska Zbrojna» полпредство реагировало заявлением протеста начальнику Восточного отдела МИД, который признал его обоснованным. Со своей стороны, и.о. наркома по иностранным делам 6 апреля телеграфировал в полпредство: мы, «конечно, не заинтересованы в раздувании этого дела». Почти в тех же выражениях писал в Варшаву и Стомоняков. Полпреду Богомолову поручалось организовать похороны Апанасевича в польских Барановичах.
Тем самым НКИД демонстрировал отсутствие у него каких-либо претензий к полякам и свое стремление поскорее забыть о прискорбном инциденте; на Коллегии НКИД вопрос о нем не ставился. Полное молчание о деле Апанасевича вплоть до 11 апреля хранила и московская печать[471]. Присутствие Стомонякова на заседании Политбюро (и указание на него как на докладчика) означает поэтому, что он был вызван для дачи объяснений о неправильной позиции ведомства и получения новых директив. С другой стороны, предписанный постановлением Политбюро «ответ» советской печати фактически начался неделей раньше[472]. Особенностью этих выступлений, за которыми последовала грубейшая публикация в «Красной Звезде» 10 апреля, являлась нацеленность на дискредитацию армии и Маршала Польши. «Подобного бесцеремонного и агрессивного тона» советской печати польская миссия не наблюдала со времени убийства П.Л. Войкова[473]. Роль печатных органов Политуправления РККА в организации антипольской кампании дает основания полагать, что инициатива искусственного обострения отношений с Польшей исходила не только из ЦК ВКП(б), но и из военного ведомства. Поскольку атака военных изданий вскоре затронула и иные области внешней политики СССР (в частности, критике подверглась советская дипломатическая тактика в Женеве, куда только что выехал Литвинов)[474], осуждение поведения НКИД в деле Апанасевича приобретало более широкое значение.
12 апреля, во исполнение решения Политбюро, полпредство потребовало от польских властей выдачи тела Апанасевича; 19 апреля это требование было исполнено, однако передача советским властям мозга, внутренностей и первоначального протокола вскрытия была задержана со ссылкой на необходимость соблюдения юридических формальностей. Полпред Богомолов обратился по этому поводу с вербальной нотой в МИД, а 30 апреля лично к министру иностранных дел А. Залескому. Советская сторона решительно отклонила польское требование о выплате возмещения в пользу семьи убитого Апанасевичем полицейского. При этом требование выдачи внутренностей и копии протокола вскрытия выдавалось за настояние «жены т. Апанасевича», «поддерживаемое» НКИД[475]. В начале мая заведующий советским рефератом МИД Янковский сообщил первому секретарю полпредства Кулябко, что выдача мозга и внутренностей Апанасевича «не будет произведена до тех пор, пока в советской прессе не прекратятся утверждения, якобы инкриминирующие польским полицейским убийство гр. Апанасевича. Полпредство выразило несогласие с увязкой этих двух вопросов и сослалось на предшествующие обещания поляков[476]. Со своей стороны, «в ответ на вопрос, как сложились польско-советские отношения после инцидента в Барановичах, министр разъяснил, что характер этого инцидента заранее исключал возможность всякого влияния на отношения между двумя государствами»[477]. Наконец, 18 июня в Минск были пересланы останки Апанасевича и копия акта о причинах его смерти (протокол вскрытия был оставлен в следственных делах)[478]. Данных о проведении предписанной Политбюро экспертизы в Минске не обнаружено. Впрочем, НКИД не имел никаких сомнений относительно ее возможных результатов. «Вопрос нужно считать исчерпанным, – с облегчением констатировал Стомоняков, – и мы к нему не намерены больше возвращаться ни в дипломатических переговорах, ни в прессе»[479].
Вероятно, ни руководство НКИД, ни полпред с самого начала не одобряли решения Политбюро использовать дело Апанасевича для создания напряженности в советско-польских отношениях. В ответ на строгий партийный выговор Богомолов сделал попытку оправдаться. 16 апреля он направил Стомонякову и Сталину письмо, в котором доказывалось, что поведение полпредства в деле Апанасевича соответствовало директивам Центра[480].
Поднятая в советской прессе кампания вокруг дела Апанасевича вызвала желаемую общественную реакцию, которая оправдывала и еще больше подогревала антипольскую кампанию. «Интерес со стороны общественности, в особенности на Украине, действительно велик. Управление Уполномоченного НКИД в Харькове получило запросы от рабочих ряда заводов и вынуждено давать уклончивые ответы»[481]. Советская пропаганда широко использовала в своих целях формирование нового польского кабинета, в состав которого вошли шесть бывших старших офицеров. Разоблачение «правительства полковников» слилось с посмертной защитой «т. Апанасевича – жертвы польской охранки» и затушевало беспочвенность обвинений, давших повод к антипольской истерии[482].
Последнюю часть постановления Политбюро от 11 апреля руководство НКИД исполнять не спешило. Вопрос о ней был поставлен на обсуждении Коллегии лишь 24 апреля. Коллегия НКИД признала «нецелесообразной посылку ноты Польше по поводу усилившейся кампании польской прессы», поскольку агрессивное поведение советской печати давало полякам множество поводов для ответных дипломатических демаршей, что поставило бы НКИД в неудобное положение. Вместо этого, подстраиваясь под общие директивы ЦК ВКП(б), Коллегия сочла необходимым «усилить и развить кампанию в нашей прессе»[483].
30 апреля по поручению МИД Польши С. Патек посетил НКИД для заявления протеста против распространения советской прессой ложных сведений об инциденте в Барановичах. Посланник «подчеркнул, что союзному правительству точно известен ход событий, в которых польские власти проявили максимум выдержки и доброй воли по отношению к психически больному человеку». Исполняющий обязанности наркома Л.М. Карахан подтвердил, что «советское правительство знает существо этого дела от начала и до конца, что не заявлял и не заявляет по нему никаких претензий, что напротив, [он. – Авт.] усматривает в нем со стороны Польского Правительства поведение, исполненное достоинства и понимания того, что оно является болезненным происшествием, вызванным помешательством несчастного человека». Отчасти оправдывая поведение советской печати, Карахан сослался на «некоторые агрессивные и острые» статьи в польской прессе, однако заверил посланника в том, что «уже предпринимаются и еще будут предприниматься шаги во избежание случаев, подобных тем, которые вызвали наш [польский. – Авт.] протест». В следующей беседе он сообщал Патеку, что «советское правительство» провело «целый ряд заседаний, в ходе которых члены Коллегии Наркоминдела, а в особенности Карахан и Стомоняков, должны были представлять специальные отчеты и объяснения» относительно тона польской прессы. Согласно Карахану, «исключительным беспокойством и тревогой наполняет их [ «членов правительства». – Авт.] то обстоятельство, что такое заострение тона прессы совпало с изменением состава Польского Правительства»[484]. Между тем, кабинет К. Свитальского был сформирован 14 апреля, спустя три дня после решения Политбюро «Об Апанасевиче».
18 апреля 1929 г.
Опросом членов Политбюро
5. – Об Эстонии (т.т. Стомоняков, Микоян)
а) Принять предложение Эстонии о вступлении в переговоры на предмет заключения торгового договора.
б) Назначить делегатами по ведению переговоров: полпреда т. Петровского и торгпреда т. Смирнова.
Протокол № 75 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 19.4.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 737. Л. 1.
Постановке этого вопроса на заседании Политбюро предшествовала обстоятельная беседа Б.С. Стомонякова с главой Наркомторга А.И. Микояном 6 апреля. В ходе ее были согласованы позиции НКИД и НКТ относительно заключения торгового договора с Эстонией[485]. Необходимость согласования обусловливалась отрицательной позицией аппарата НКТ к размещению в Эстонии дополнительных заказов, на чем настаивало руководство НКИД[486]. О возможности и желательности заключения торгового договора время от времени говорили на протяжении всего 1928 г. и в Таллине, и в Москве однако, наибольшую готовность обсуждать эту тему советская дипломатия проявила в период трудных переговоров о присоединении Эстонии к Московскому протоколу.
Заключение торгового договора с Эстонией рассматривалось в Москве как одна из мер, которая должна была способствовать улучшению двусторонних политических отношений, внешнеполитической переориентации широких общественных кругов Эстонии, а также позитивным изменениям в советско-финляндских отношениях. Состояние советско-эстонской торговли (с 1927 г. происходило быстрое уменьшение ее доли во внешней торговли Эстонии из-за сокращения заказов на эстонскую бумагу и советского экспорта зерновых) не могло не сказываться на настроениях политических кругов в Таллине. В решении Политбюро не зафиксированы какие-либо принципиальные положения о характере самого предполагаемого договора. Это, впрочем, не свидетельствует о том, что позиции НКИД и НКТ изначально совпадали, но, возможно, в ходе обсуждения на данном заседании вопроса о том, на какой основе будет построен договор (принцип контингентов или нетто-баланса), не обсуждался. В одном из своих писем полпред Петровский напоминал Стомонякову, что тот в разговоре с ним высказался против «активного торгового баланса с балтами», поскольку «ничтожная реальная польза (ввиду малого масштаба оборотов) от такой активности баланса отнюдь не компенсирует того большого политического вреда, который получится в результате ее»[487]. Однако в последовавших за решением ПБ указаниях Стомонякова полпреду указывалось на необходимость «решительным образом отвергать даже малейшие попытки… протаскивать принципы нетто-баланса или так называемой взаимности, хотя бы в самом урезанном виде»[488]. Стомоняков отвергал тезис полпреда о необходимости «платить» за хорошие отношения («Маленькое соседнее государство заинтересовано в том, чтобы поддерживать нормальные и даже “дружественные” отношения с нами даже и без всякой “платы”»), но признавал, что фактической причиной, вынуждавшей отказаться от «платы», являются скудные импортные возможности СССР[489].
Можно предположить, что в силу осведомленности как в способностях полпреда Петровского вести переговоры по торговым вопросам (инспектор НК РКИ Абезгауз так, например, характеризовал этого советского дипломата: «слабо знаком с коммерческими кругами и торговой жизнью страны и по личному признанию ничего в торговой деятельности не смыслит, однако, претендует чуть ли не на руководство всеми торговыми операциями… Болезненный, мнительный, полный сомнения»[490]), так и торгпреда Н.А. Смирнова, в Москве решили «усилить» делегацию начальником Договорно-правового управления НКТ М.Я. Кауфманом и заведующим торговым подотделом Экономическо-правового отдела НКИД Б.Д. Розенблюмом[491]. В эстонскую делегацию входили К. Пятс, П. Пиип, К. Варма и М. Хурт. Советской делегации удалось добиться подписания 17 мая 1929 г. более выгодного договора о торговле и мореплавании (ратифицированный ЦИК СССР 7 августа, договор вступил в силу 19 сентября), чем подготовленный летом договор с Грецией (советская сторона пошла в нем на такие формулировки в признании прав торгпредства, в которых было отказано эстонцам). Стомоняков в одном из писем даже указывал на возможность принесения в жертву договора с Грецией (в окончательном варианте получившего статус Конвенции) ради ратификации более выгодного договора с Эстонией[492].
30 апреля 1929 г.
Решение Политбюро.
2. – О Литве.
а) Предложить т. Литвинову не заезжать в Литву.
б) Предложить т. Литвинову приехать через Варшаву и остановиться в Варшаве, подняв там вопросы об антисоветской кампании в Польше.
в) Вопрос о Литве отложить.
Выписки посланы: т. Стомонякову.
Протокол № 78 (особый № 76) заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 3.5.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 7. Л. 74.
Поручение М.М. Литвинову остановиться в Варшаве и поставить там «вопросы об антисоветской кампании в Польше» было, по всей вероятности, вызвано невыполнением НКИД решения Политбюро о направлении по этому поводу ноты протеста. 3 мая Политбюро отменило свое постановление от 30 апреля об остановке Литвинова в Варшаве[493]. Формулирование этого вопроса в повестке заседания («Вопросы т. Литвинова») указывает на вероятность того, что новое решение было принято по настоянию находившегося в Женеве и.о. наркома. Пересмотр постановления 30 апреля мог быть мотивирован как опасением чрезмерно обострить отношения с Каунасом, так и несогласием М.М. Литвинова принять навязываемую ему неблагодарную роль – протестовать против поведения польской печати в начатой Москвою пропагандистской войне (см. комментарий к решению 11.4.1929). Вероятно также, что отмена рабочего визита в Варшаву была связана с обострением, которое внесла в советско-германские отношения речь Ворошилова на первомайском параде. Одновременно с «вопросами т. Литвинова» Политбюро рассмотрело «заявление т. Карахана» и «обязало тт. Ворошилова и Бухарина внести изменения в печатный текст речи т. Ворошилова»[494]. Речь члена СНК СССР была опубликована в выхолощенном виде[495], но эта акция лишь умерила масштабы вызванной ей конфронтации. В этой обстановке встречи Литвинова с руководителями польского правительства могли внести дополнительное напряжение в отношениях с Германией
«Предложение» Литвинову отказаться от визита в Каунас было вызвано охлаждением отношений с Литвой. Советская инициатива заключения дополнительного протокола к пакту Бриана-Келлога, вопреки ожиданиям Москвы, усилила взаимное недоверие между СССР и Литвой, постепенно нараставшее с 1927 г.[496]. В Каунасе первоначально отнеслись одобрительно к идее Литвиновского протокола. При этом А. Вольдемарас рассматривал советскую инициативу как средство продемонстрировать агрессивные намерения Польши на востоке Европы, т. е. фактически стремился к ее срыву (в случае неудачи всей акции с подписанием протокола). Вольдемарас проигнорировал намек на желательность для Москвы, в силу ряда причин, получить от Литвы предложение о трехстороннем подписании протокола, а не довольствоваться польско-советским и советско-литовским протоколами[497]. Ряд «технических» промахов советских дипломатов, негативно сказавшихся на международном престиже Литвы, был использован Вольдемарасом для обвинений Москвы в предательстве. Литовский премьер воспользовался неудачным (хотя и вынужденным) шагом НКИД – публикацией коммюнике, в котором указывалось, что Литва была официально уведомлена об окончательном проекте протокола[498], что противоречило истинному положению дел (временный поверенный в делах СССР в Каунасе С.И. Рабинович передал этот текст «неофициально и конфиденциально»). В НКИД не могли согласиться с требованием Вольдемараса опубликовать опровержение, поскольку это грозило осложнениями в переговорах с Латвией. Но литовский премьер занял жесткую позицию: отказ в опровержении фактически разрушал иллюзию о поддержке его внешнеполитической линии со стороны Москвы и об исключительной близости двух стран, и на фоне ухудшения отношений с Германией, подчеркивал международную изоляцию Литвы.
25 февраля Вольдемарас заявил полпреду: «Скажу прямо – в наших отношениях наступил кризис доверия». Он обвинил СССР в готовности принять эвентуальное предложение Польши «о разделе Прибалтики»[499]. Со своей стороны, Антонов-Овсеенко позднее объяснял позицию Вольдемараса эгоистичным расчетом на ««бескорыстную заинтересованность» нашу в сохранении и усилении независимой Литвы»: «Он полагал возможным свободно «бряцать нашим оружием» и даже пытался нас ангажировать в предпринимаемых им антипольских кампаниях… он просто враждебно относился ко всему, что смягчало напряженность этих (т. е. советско-польских) отношений»[500]. Сохраняя неизменной свою позицию в отношении «польской оккупации Вильнюса», руководство НКИД отказалось обсуждать с Вольдемарасом возможность «уточнение договорных отношений» между Советским Союзом и Литвой[501]. Спустя два дня вопрос об «уточнении» снова оказался в повестке дня Коллегии: прежнее решение было, фактически, подтверждено.
Москве приходилось балансировать между неприятием навязываемых Вольдемарасом уступок и возможностью лишиться единственного крупного литовского политика, занимавшего последовательно антипольскую позицию. В НКИД с большой настороженностью воспринимали сообщения о полной политической изоляции Вольдемараса в Литве, тем более «мы в Литве настолько слабо противодействовали закреплению нам враждебных явлений, что сейчас здесь нет ни одной политической партии или группы, которая осмелилась не то, чтобы рекомендовать ориентацию на Москву, но просто оговаривать необходимость добрососедских отношений»[502]. Вместе с тем, в НКИД рассчитывали, что «от нашей помощи он все равно не откажется, несмотря ни на какие инциденты и престижные обиды»[503]. В апреле 1929 г. в Каунасе осознали, что отношения с Москвой оказались недопустимо натянутыми, и предложили «для уточнения отношений» устроить встречу Литвинова (по пути того в Женеву) с литовским руководством. Литовское правительство продолжало настаивать на визите, пусть даже кратком, напоминая, что путь через Каунас всего на три часа длиннее, а разрыв между приходом и отправлением поезда составляет одиннадцать часов.
После решения Политбюро о нежелательности визита и.о. наркома в столицу Литвы, НКИД продолжал поддерживать впечатление о возможности остановки Литвинова в Каунасе, дабы не обидеть Вольдемараса (и в расчете, что в последний момент М.М. Литвинов может отказаться от визита под предлогом плохого самочувствия). Полпред неодобрительно отнесся к решению «инстанции», он считал «чрезвычайно ошибочной эту политику чрезвычайного менажирования поляков» и предлагал устроить хотя бы визит Б.С. Стомонякова[504] (в 1928 г. уже посетившего Каунас для переговоров с главой кабинета).
3 мая 1929 г.
22. – О Нарвском водопаде (т.т. Рыков, Стомоняков).
Утвердить постановление совещания Председателя СНК и СТО с его заместителями от 30.IV.29 г.
Протокол № 78 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 3.5.1929. – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 738. Л. 5.
В конце 20-х гг. в Эстонии стал активно обсуждаться вопрос об использовании вод реки Наровы для увеличения производства электроэнергии. Рентабельность данного проекта не могло повысить даже возможное расширение производства Кренгольмской мануфактуры. В связи с этим возникали различные планы использования излишков электроэнергии, в том числе и создание крупных предприятий по переработке леса. Последний в необходимых количествах можно было получить только из СССР. К проекту проявили интерес английские, французские и германские деловые круги. Москву, стремившуюся укрепить свое влияние в Эстонии, не устраивало дополнительное привлечение английских и французских капиталов. Как свидетельствует служебная записка заведующей Секретариатом Управления делами СНК СССР и СТО Е. Веприцкой, советская сторона считала поставку леса в принципе возможной. На совещании Председателя СНК и СТО с его заместителями[505] было решено поручить НКИД довести до сведения эстонского правительства, что правительство СССР «готово заключить с ним договор о длительном обеспечении проектируемого Нарвского комбината советским сырьем-балансами». На Наркомат торговли возлагалось ведение соответствующих переговоров «с тем, чтобы договор был заключен от имени Союзного правительства» и предусматривал «доставку балансов по 30 тыс. куб. саж[еней] ежегодно в течение 25–30 лет»[506].
Получение Эстонией информации о готовности СССР вести переговоры о поставках балансов вызвало интерес деловых кругов. В июне 1929 г. стал активно обсуждаться вопрос о составе эстонской делегации на предстоящих переговорах и поездке ее в Москву. Полпред А.М. Петровский ратовал за включение в состав делегации К. Пятса. Однако Стомоняков отнесся к этому с осторожностью: «Само собой, разумеется, было бы очень нежелательно из-за удовольствия видеть Пятса в Москве и из-за удобства вести переговоры с дальновидным политиком потерять потом влиятельного сторонника эстонско-советского сближения»[507]. Позднее он изменил свою позицию, считая при этом, что следует принять меры к тому, чтобы политический авторитет Пятса не пострадал[508]. Забота об авторитете Пятса была вызвана, скорее всего, тем, что к тому времени в НКИД было известно о позиции Наркомторга, который не был расположен предлагать Эстонии выгодные для нее условия соглашения (особых затруднений со сбытом леса на европейском рынке у СССР не было).



