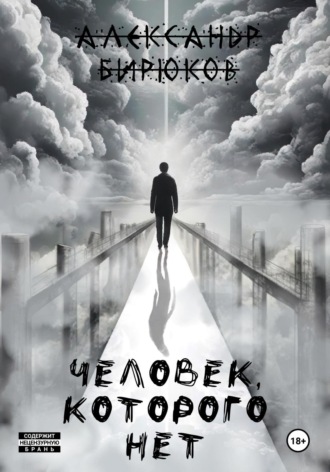
Александр Романович Бирюков
Человек, которого нет
Каждый из нас по-своему несовершенен. Несовершенен был и я: я всюду видел преимущественно серые цвета – хотя порой я все же выхватывал кусками неподдельные насыщенные цвета, – но чаще всего (почти всегда) мне приходилось довольствоваться серостью окружающего мира. Называя передачу цветовой палитры, которая являлась в моей голове сложной вереницей слов, я попросту врал, говоря, что вижу что-либо в красках. Облака казались вдалеке серыми пятнами, такими же были и люди, чьи лица я насильно перевоплотил в то, что сам хотел в них видеть. Мне не было понятно только одно: почему в их лицах я видел незнакомых мне людей, хотя было логично узнавать в них знакомые черты когда-то мельком увиденных проходимцев. Но этого не было, и мне случайно пришла в голову интересная мысль, объясняющая это: «Значит, в моей вселенной существует еще один, кто меняет и создает – перевоплощает мою реальность в нечто совершенно необъяснимое, в нечто сложное и противное мне!» Но это было только предположение, и насколько оно могло оказаться правдой сказать было трудно, но все же, отложив на антресоль моей темной внутренней пустоты эту мысль, я, освободившись от напастей наплывающих идей, побрел дальше.
На площадке качались дети, и в тот момент, когда я проходил мимо них, их взоры по установившейся траектории снизу и по диагонали вверх – в сторону моей персоны, как по какому-то волшебному щелчку утреннего будильника, звавшего в уборную, останавливались на мне. Их детские (но пусть вас это не обманывает) глаза поедали меня – милые детские глаза, – но как только я начинал видеть в этих глазах потенциал к способности мыслить самостоятельно, я терялся, и тогда их глаза становились осиными бездонными зрачками во весь размер глаза диаметром с кулак. Я стремился как можно быстрее пройти мимо них, но оторвать свой дальтонический взгляд от их огромных зрачков никак не получалось. Они словно специально искали мой взгляд, используя грязные приемы, цепкими лапами хватая и удерживая до тех пор, пока моя голова не скроется за домом, мимо которого я проходил, и за углом которого я уже не мог лицезреть детские ужасающие глаза, размером с машинные фары, освещающие мрак. Я знал, что эти огромные глаза будут расширяться до тех пор, пока не поглотят хрупкие тельца детей, ломая их кости внутри их же тела, тем самым поглощая материал для становления нового мира, соперничавшего с моим в параллельной вселенной.
Пришлось немного потеряться в бесконечных улицах и проспектах захлебывающегося города, уставшего от бесконечного наплыва людей. Не то, чтобы это было необходимо – потеряться, – но это было мое личное желание… за титанические усталости, способность пропускать через себя бешеный нескончаемый поток информации и даже чувствуемой части человеческих желаний. Это было мое первое желание, когда я делал ровно то, что хотел, а не то, что от меня в той или иной мере требовалось; могло казаться, что человек всегда делает то, что хочет, но только не в этом мире, не в этой жизни, не в этом теле, нет! точно нет. Начинало мутнеть в глазах, отчего мир казался немного лучше, чем был несколько минут назад.
Каким-то неведомым образом я оказался на уже знакомой мне улице, состоящей сплошь из голубых витрин. Тело никак не реагировало на странное стечение обстоятельств вневременного хода событий, но мозг явно начинал вибрировать, постепенно разрушая тонкую корку – своего рода клетку, защищающую мозг от внешнего воздействия; но ровно в данную минуту корка давала очередную трещину. Я знал, что жить оставалось недолго. Странно было бы вот так умереть в том мире, который я же и создал сам; но таковы правила вселенной, и для всех они одинаковы вне зависимости от принадлежности, кастовости, нужности: не важно каков потенциал, сколько денег за спиной и сколько прожито – это все ничего не значит.
В этих голубых витринах я видел бегущего себя, но теперь я не бежал, а только смотрел на то, как прошлое постепенно вмешивается в настоящее, меняя будущее, которое никогда не настанет, уступая место настоящему, консервируя прошлое. В отражении витрин мне приходилось видеть отражение отражений витрин, где бежало мое отражение: сначала заторможенное, потом предупреждающее время. Мне не было страшно, отнюдь, но я чувствовал, как все это начинает не то, чтобы сводить меня с ума, но давать странное представление о знакомом – теперь уже совсем чуждом – мне мире. Мне странно было видеть три цепочки развитий: настоящее – то, где был я; прошлое – где убегал от собственного себя я; и искаженное прошлое (прошлое-прошлое), где моя тень догоняла, а затем точно так же, как и я, убегала от меня. Со стороны теперь было вообще не понятно, кто там является настоящим мной, все смешалось: прошлое, настоящее, что-то забытое и мгновенно вспомненное. А настоящий ли я? Может быть, я являюсь отражением в луже, разлитой на холодном осеннем асфальте в соседнем дворе моих представлений, где мой мир является только фракталом, случайно сформированным продолжением настоящей жизни того, кто мимоходом взглянул в ту лужу. Я мог вспомнить свою жизнь, но моя ли она? не того ли человека, забывшего свои ключи дома, наступившего в лужу туфлями и потоптавшегося на асфальте, тем самым дав толчок, дублируя свою жизнь в спокойной глади маленькой грязной лужицы?
Мигрени, мигрени, мигрени – они сдавливали мозг ранее растаявшей, а теперь снова замершей коростой льда, которая не охлаждала, но только обжигала всего меня, сковывая члены и полые руки, ноги, глаза и органы. Пришлось сесть, потом лечь на асфальт и барахтаться, словно душевнобольной, катающийся по полу психиатрической больницы, надеясь, что эти перекаты минимизируют головные боли, проедавшие голову от корки до корки, как черви, как маленькие капли, падающие на темя, съедающие кожу и кости до основания, оставляя после себя маленькую впадинку. Было невыносимо больно, но в то же время приятно, приятно оттого, что скоро это должно закончиться, и я с нетерпением ждал момента, который разом должен был прекратить все мучения, открывая дверь в уже знакомый мир ненависти и незыблемой тщательно контролируемой страсти – жажде к жизни. Глаза лепетали Лебединое озеро пестрыми фалдами балерин, но я ничего не видел, как будто ослеп.
Но вдруг рядом пролетели формы глаз, не облачных глаз, а настоящих человеческих женских глаз, тушью выведенные ресницы, одернутые в сторону лазурного неба, тени, подведенных снизу белка, где глаз распластался в синеве невиданных мной красок, как яичница в ржавой сковороде, скобленная алюминиевыми вилками: желтый зрачок и бесцветный белый белок, окантовывающий черно-желтое пятнышко. Потом глаза исчезли, льстиво поглядывая на мой запачканный пиджак; кто-то загородил мне свет.
– Здравствуй. Как же давно я не видела тебя… – сказала женщина, всматриваясь в мое лежащее на асфальте тело.
Я не видел ее лица полностью, но только слышал то, как она представилась, видел ее улыбку – едва одернутый оскал на лице, который прожигал ее губы сочным соком слюны, и еще часть носа – самый его кончик, заостренный, как стремящийся к небу ятаган из дамасской стали; но выше этого кончика носа ничего не было, будто плотное марево закрывало область выше того места, за которое нельзя заглядывать. А потом она растворилась. Я моргнул, широко открыл глаза, разрешая тусклому дневному свету просочиться сквозь прозрачную роговицу моего полумесяца. Тишина. В ушах едва различимо постукивали шаги проходящих мимо людей, которые, к моему очевидному удивлению, совершенно не замечали меня, наступая мне на руки, на ноги, а порой и на уши, придавливая их к тротуару. Хотелось убежать, уйти, раствориться.
Поднявшись и отряхнувшись, я огляделся по сторонам. Теперь уже не было ни стекол витрин, ни людей, – одна лишь пустота, нагнетающая ощущение безысходности, слабость и запах торфа, разносящийся по улицам невидимым дымком сгоревших болот. Еще недавно сырая земля под носом ссохлась и перестала источать приятный голове – больше успокаивающий, убаюкивающий, – но не обонянию, запах. Послюнявив пальцы, я стал растирать сухую землю под носом, чувствуя проблески жесткой щетины, изрядно отросшей за последнее время, что в действительности меня немного удивило, так как с утра (а когда же это утро, собственно, было?) кожа моего лица была как протертая спиртом деталь станка – гладкая и сверкающая. Истошным неоном мерцали помпезные буквы, висевшие прямо перед моим носом – а по факту над аркой одноместной двери, петли которой ужасно ворчали, когда дверь открывалась; но услышать этот звук я смог лишь только после того, как сам распахнул дверь и ворвался внутрь миллиметровыми шагами.
Внутри пахло дешевыми духами, алкоголем, по́том и запахом человеческих нечистот. Запахи доносились откуда-то сверху. Чтобы оказаться наверху, необходимо было подняться по тесной крутой лестнице с деревянными бурыми перилами (некоторые цвета я все же мог определять по холодному или теплому оттенкам), под перилами извивались ажурные дорожки металлических полос, кое-где превращавшиеся в незатейливые цветочные бутоны. На втором этаже было куда уютнее. Вокруг мерцали приглушенным светом лампы, абажуры которых свисали со стен; обои на стенах напоминали богато, но безвкусно украшенную будку для пса, богатые владельцы которого не пожалели денег на обустройство маленькой каморки для своего животного; темных цветов ковер, который лишь на миллиметр оголял наготу пола, закрывая собой почти все пространства огромных комнат; по углам стояли столики с вазами, в которых стояли увядшие цветы.
Ко мне тут же подбежала толстая старая женщина килограмм в сто двадцать, чья старость не была так очевидна: не было ни складок, ни морщин, глаза ясные, но немного потухшие; но все же по тому, как она охватывала ртом сигаретный мундштук, по тому, как от нее разило перегаром, я понял, что ей не меньше сорока пяти; и ее голос, хрипловатый, но тихий и уверенный начал меня раздевать, как только я поднялся на последнюю ступеньку и сделал шаг навстречу задымленной открытой комнате:
– Здравствуйте мистер, желаете девочку? – И не выслушав моего согласия, она уже кричала в противоположную от меня сторону: – а ну быстро подошли сюда, у нас гость, – а потом, как бы вопрошая, тихо добавила, чтобы услышал ее только я: – что с них взять!
По крику мадам прибежали девочки, разных конституций, объемов и цветов кожи, последнее я отличал только по переливу и отражению света от кожи девушек, так как освещение в комнате было, если не соврать, паршивое. Но было в них что-то особенное, что-то знакомое и странное, что-то такое из ряда вон выходящее, но чего я сразу-то и не смог заметить, окинув беглым взглядом их молодые разгоряченные тела, которые в пол-оборота были повернуты ко мне. У них не было голов, но только ровный срез по шее, отделявший их человеческое естество от пустоты, в которой теперь не присутствовало ровным счетом ничего, кроме прозрачного воздуха с мелкой взвесью и запахом пота; как будто старуха специально так сделала, чтобы женщины не надоели своим трепом посетителям, будто считала, что так от них больше пользы и красоты, нежели с настоящими головами, но я знал, что это не дело рук сто двадцатикилограммовой мадам, а дело рук моего мозга, если можно так интерпретировать эти три несовместимых между собой слова.
Кивок головы был направлен в сторону одной из стройных девиц, что стояла между темнокожей и светлокожей, по видимому черноволосой, так как если бы у нее присутствовала голова с волосами, то их цвет был бы именно черным. Она вышла вперед, сделала несколько оборотов в каждую из сторон, считая лучшим показать мне себя со всех ракурсов: свои груди, ягодицы, длинные ноги на туфлях с низким каблуком, шею и другие части женского тела, которые сейчас меня интересовали, надо сказать, не так сильно, как всегда. Но женщина всегда остается женщиной, не смотря даже на красоту тела, красоту лица и глаз, чего в данный момент, говоря со всей серьезностью, и апломбом в голосе, не было. После того как она закружилась в танце одного актера, будто исполняя менуэт женщины, не получившей того, о чем она всегда мечтала в жизни: славы, денег, красивых мужчин, но вместо этого простые разочарования, полностью поглотившие ее с головой, теперь же главенствующие ею, доминирующие над ею самой и ее естеством, которого она сама в душе боялась, – она грациозно поманила меня своей рукой.
Мы уединились в небольшой комнатке, где стоял тяжелый запах табачного дыма, и, если принюхаться, то можно было понять, что он уже живет своей жизнью, что он выкуривает сам себя, ежесекундно поддерживая однородную консистенцию в чахлой комнате спеси и разврата. Обои в комнате были чертовски красивы, но при детальном рассмотрении, когда дым за малым расстоянием от стены немного подтаивал, не находя места для продолжения своего плавного распространения вдаль, они становились кривыми, жухлыми, местами изодранными; шов явно расходился, обнажая узкие линии голых стен и черной плесени. В некоторых местах мне виделись следы от ногтей, которыми видимо, мужчины в моменты то ли страха, то ли апогея сцарапывали обои со стен. Хотя не исключено, что это был только мираж, сокрытый под толщей густого крепкого сожжённого табака, лелеющего мои глаза сладкой дымкой. Марево добавляло определенную атмосферу этому месту, в котором угасало не только желание женщины, но и любое другое желание.
Мягким голосом, где-то с другой стороны задымленной комнаты, ко мне обратилась сорокалетняя старуха:
– Может быть мистер желает что-нибудь выпить? – Эти слова разнеслись эхом по комнате, будто отталкиваясь не только от четырех стен, но и от дыма. Я тонул в этом дыме, словно в воде.
– Да, – ответил неведомо куда мой голос, не дожидаясь меня, – бокал джина и два бокала вермута. – Потом, призадумавшись, зная, что старуха ждет от меня чего-то еще, я добавил, не зная кому, то ли проститутке, то ли все той же мадам-сутенерше: – Дама желает что-нибудь?
Я знал, что дама не сможет мне ответить за неимением рта, но за нее мне ответил все тот же голос со стороны дверного проема, которого я никак не мог найти, идя вдоль прямых стен с оторванными в некоторых местах обоями.
– Она не пьет.
Я почувствовал ее улыбку на коже своих щек, которые вмиг очерствели под наплывом табачного дыма.
– Ваш же заказ я немедля исполню.
Дверь захлопнулась, покачнув безмолвную стойкость дыма, который теперь качался, как волны, на уровне моего подбородка. Эту дверь я так и не смог найти, но, пройдя вдоль стен, кажется, несколько раз, я подошел к кровати с проституткой, которая лежала на пунцовом покрывале с сухими лепестками роз. Она лежала, немного согнув ногу, и курила, подставляя сигарету в мундштуке к тому месту, где должна была быть ее голова; уголек на секунду вспыхивал красной краской, а потом угасал. В воздухе снова клубился дым, будто пропавшая голова была везде и выпускала дым там, где ей захочется. Мое желание лечь пересилило исступление: я совершенно не понимал того, что происходило вокруг. Я лег и закурил, сравнивая курение проститутки с тем, как курю я. Я не мог до конца понять, видит ли они меня, понимает ли то, что рядом с ней сейчас лежит мужчина, осознает ли это.
Неведомо откуда появился фантом женщины с подносом, на котором стояло три бокала с позолоченной окантовкой: один с джином и два других с вермутом.
– Наслаждайтесь, – с улыбкой произнесла она, после чего растворилась, исчезнув так же быстро, как и появилась.
Но наслаждаться-то особо было нечем: непролазный дым постепенно забирал силы. Такое чувство впервые овладело мной. Я вообще не мог вспомнить, испытывал ли я подобную этой симфонию тишины раньше. Как будто бы утренний, предрассветный, – туман, в полумраке ожидавший первые солнечные лучи, позволял видеть вокруг, как это всегда бывает, только малую часть пространства, чаще всего ту, в которой стоишь ты сам и некоторую территорию вокруг. Сейчас я видел небольшую часть вокруг себя: пунцовые простыни, безголовую проститутку, свечи, бокалы, и больше ничего.
Я начал разговаривать с проституткой, которая курила уже третью сигарету:
– Как странно, но я никогда не видел окраин этого города, – начал я так, будто продолжал незаконченную тему, но теперь возвращаясь к ней вновь и вновь с апломбом и полным отсутствием страха и неуверенности в голосе. – Я никак не могу найти выход из этого города, точно так же я не могу найти выход из этой комнаты. Мне кажется, что я чего-то не сделал… а, может быть, сделал слишком много? и, когда я сделаю что-то нужное, дверь сама найдется. Нам непременно нужно заняться любовью, чтобы у меня получилось выбраться отсюда – это я знаю, но все потом, потом, сейчас я хочу просто поговорить…
Я отвлекся, и залпом допил противный вермут, который теперь совершенно потерял вкус. Синэстезия давала о себе знать неровной тряской рук, которые начали плясать ровно после того, как я осушил бокал. Поступало осознание того, что алкоголь начинает медленно меня расщеплять, разрывая на сегменты единство моего тела, а потом, вдоволь насладившись сладким послевкусием своей власти, алкоголь начинал собирать меня конструктором опьяняющих феноменов, пронизывая каждую часть тела стальными тонкими прутами, связывая все части тела воедино вновь. От старых попоек уже были тысячи заживших ран, но это ничего не меняло, нельзя было привыкнуть к нестерпимой боли алкогольной зависимости, когда твое тело не только не сохраняется в первозданном виде, но разлагается заживо внутри себя. Джин и второй бокал вермута пока я пока трогать не стал.
– Я бродил по пустым серым улицам, но так и не смог разглядеть их лица. Эти головы никак не могли преобразоваться во что-то новое, во что-то ценное – ценно-прекрасное.
Я взял бокал с джином, но не стал пить его сразу: я разделил его на три части. Первую я отпил в ту же секунду. Джин был разбавлен, но не чем-то паршивым, а обычной водой.
Я продолжил односторонний диалог:
– Я никак не могу понять все то, что происходит вокруг: почему же все-таки этот город так ограничен в пространстве, но так многолик, так многофункционален, подобен себе и не себе в одно и то же время? Я не вижу того, что с ним происходит, но он всегда разный, его сточные воды, трубы, свисающие ржавчиной с крыш домов всегда текли и будут течь в одном направлении – правда это или нет? – я не знаю, не имею ни малейшего понятия об организации данных физических величин, но в моем мире все по-другому, все не так, как должно быть… а как должно быть? как нужно, чтобы этот мир был сформирован? не мне ли решать это, обуславливая те или иные факторы желанием своего мозга, его моментальными вычислительными процессами, следующими за длинными раздумьями? Я здесь всемогущ и вездесущ – ты должна это знать, – сентенциозно говорил я проститутке, которая даже, возможно, не понимала меня; ее уши плавали где-то в совершенно другой реальности, там, где у головы не было тела, а, может быть, все-таки было; но я надеялся, что она может слушать меня частичками кожи.
Закурив сигарету, я стал обдумывать, чего мне хочется больше: заняться любовью с проституткой или же продолжать монолог. В краткий срок я решил, что продолжу свой рассказ после объятий.
Прошло не менее двух минут горизонтальных танцев, но за это время я мало что почувствовал. Не знаю, что было тому виной: быть может, абсолютное очерствение к окружающему миру и его благам, быть может, безразличие к плотским удовольствиям – я не знал, как описать мою сухость в том виде, в котором она присутствовала во мне. Но внезапное безразличие сменилось едва заметным удивлением. Она выделывала различные «па» на мне, а в это время за ее спиной, среди густого дыма, застилающего не только стены, но и границы потолка, появились необычайно красивые женские глаза с черными толстыми ресницами, чуть ниже – губы, обведенные, изрезанные жесткой помадой бордового цвета. Они левитировали в воздухе, и мне было совершенно не ясно реальны они или нет. Их плотность и цвет были реальны, относительно реальны того места, в котором я находился, относительно этой комнаты и мира, бывшего вокруг меня и во мне, относительно того, что в моем мире вообще может быть реально. Были ли это ее глаза, прилетевшие посмотреть на меня, словно материнский оценивающий взгляд, или, быть может, это были глаза все той же случайно подошедшей ко мне женщины, когда я барахтался на асфальте в припадке боли, – я не знал, но знал только то, что эти глаза прекрасны, но пусты, они красивы, но бесстрастны и уж тем более безразличны ко мне; словно бабочки, ресницы хлопали, наблюдая за мной, но в то же время, смотря куда-то сквозь меня – я это знал, как знают, что в мире реально, а что нет (эту нить я, к сожалению, утерял среди бесчисленных попыток уловить хоть частичку материальности, но не безумства), – смотря за меня, за стены комнаты, за границу любой поверхности. Я не мог продолжать заниматься опостылевшей любовью, в то время как на меня смотрели глаза.
Столкнув с себя проститутку, я абсолютно голый сел на край кровати. Туман все так же безлико тянулся около меня – это значило, что в этом месте я еще не закончил. Это было удивительное место, и подобные аномалии я видел не раз, тем более что это всего лишь плод моего расслаивающегося воображения – я мог их знать, но не мог вспомнить, – она держала меня при себе, но, скорее всего, это я сам держал себя, дабы решить какую-то личную проблему, дабы отпустить засевшую внутри боль.
Безголовая женщина сидела на своем привычном месте в той же привычной для нее позе и курила трубку, ее упругая грудь латунным цветом блестела в светлой пелене дыма; из чубука слоями выходили колечки, а искусанный мундштук все так же упирался в пустоту – в то место, где у нее должен был быть рот. «Боги не простят мне этого; я бог, и я не прощаю себе этих видений. Прелестное создание, только жалко, что я представил тебя именно такой, испортив тебе часть жизни, – сутолокой слов проносилось в моей голове».
– Я не могу выйти за пределы этого города. Везде город, куда бы я ни пошел. Он растягивается на десятки километров, а потом сужается, будто бы так и должно быть, но все это зависит от меня, от моих желаний, и дело-то в том, что я сам не знаю, хочу ли этого. – За то время, пока я говорил, мне хотелось вспомнить те бездонные красивейшие глаза, которые светились изнутри, выпуская пучки света в этот холодный грязный мир. Я продолжал говорить, не отрываясь, ведя путеводную нить. – Почему же так получилось?..
Допив джин, я закурил сигарету, выпуская струю дыма из маленькой щелочки фигуристого рта. До носа, среди прочего дыма, смешанного с какой-то еще дрянью – не менее густой и дурно пахнущей, – донеслись невообразимые и незамеченные ранее запахи, точнее всего один, но который обонятельным хроматизмом раскладывался на ряд сложных красивых запахов, подобных тонким струнам арф, где каждая струна – свой единственный и неповторимый звук, присущий только одно струне и никакой другой.
Глубоко вдохнув и выдохнув, чувствуя поднимающуюся желчь к горлу, я стал продолжать:
– Чего же мне хотелось тогда? чего же мне хочется сейчас? вот вопрос, но я не могу сказать точно, что именно мне хочется, чего мне желать, чего? Что-то нужно разве желать? а разве не бывает так, что человеку все равно? что человек ничего не хочет?
Но в этот момент перед глазами потемнело, а вместо привычной комнаты всплыли воспоминания давно ушедших дней. Я что-то понял в этот момент, но не мог до конца осознать что же именно. Как странно было ощущать себя в таком состоянии, которого я не чувствовал несколько последних лет, – то ощущение, когда ответ витает где-то рядом, но вместе с тем невозможно понять, где же он. Я увидел себя совсем маленького, а рядом родителей, которых всегда представлял немного иначе: злыми, замкнутыми, невзрачными; мать – безразличная ко всему женщина, отца я вообще плохо помнил, только ту запачканную кровью рубашку в роковой для меня день, но сейчас… сейчас во вспышке они предстали совсем иными: мы были счастливы, все мы, втроем: я, мать и отец. Мы катались с отцом на каруселях, а мать нежным провожающим взглядом, каждый раз, когда карусель уводила наши кресла по кругу, вглядывалась в нас и улыбалась. У отца была улыбка на лице, которой я никогда не видел – я вообще никогда не помнил, чтобы он улыбался, – белые зубы, легкая щетина, не уродовавшая, а украшавшая его серьезное, но только для меня доброе лицо. Это вмиг пропало, сменившись другими воспоминаниями – но были ли то воспоминания?
«Это вздор! Ничего этого не было. Я снова представил себе образ счастливой жизни, которой никогда не имел! Этого не было. Иллюзия. Я никогда не был маленьким, я никогда не умел улыбаться и уж тем более не мог иметь родителей. Все это неправда. Способность мозга навязывает мне то, чего не было, но только то, что хотелось, то, что могло быть в параллельных вселенных. – Мысли на несколько секунд вообще исчезли. – Мои иллюзии меняются со мной, расслаиваются, смещаются, перекликаются… Это все как-то связано. На этот раз они подобрались слишком близко… но зачем?»
Следующий образ – я рядом с женщиной, которую я когда-то любил. «Любовь? Что такое любовь?» – спрашивал я себя, не в состоянии сравнить это чувство с чем-то реальным. Мы были с ней вместе, гуляли, говорили друг другу ласковые слова, даже не понимая, что они значат, но думая, что это что-то очень важное, что-то взрослое, а значит запретное. Вглядываясь в ее лицо, я не видел в нем ничего – только пустой холст, на котором можно было изобразить все, что угодно. Но даже за неимением характерных черт лица, я знал, что это именно она: по походке, по волосам, по мановениям рук.
«Нет, все вздор! Мы никогда не были вместе! Это я знаю точно!» – каким-то чужим голосом прозвенело в голове. Голова истошно болела, требуя прекратить мучения, печень пульсировала, напоминания о том, что она не бессмертна, о том, что она умрет назло мне, если я буду продолжать пить столько алкоголя; но прекращать я ни в коем случае не собирался. Перед глазами начинало двоиться, – хороший признак. Отравление поглотило организм, и теперь был только один путь – наслаждаться божественной негой бессилия.
Появилось понимание чего-то неуловимого, висящего в воздухе. Это невозможно пощупать, ощутить, вдохнуть, смахнуть с плеч размягченной ладонью, вялой, подобно безынтересной жизни, укутанной в свитер насущных проблем, – но сейчас все стало предельно ясно, по крайней мере, так казалось мне. Это ничего не значит. Все это явилось просто так, как и всегда: чтобы успокоить, чтобы усмирить, унять внутреннюю боль. Раньше я не давал себе этого понять… тогда почему дал сейчас?
– Вам принести еще, мистер? – отскакивал от стен голос, и было ровным счетом не понятно, откуда изначально пришел звук.
– Нет! Довольно! – отмахиваясь от наваждения, будто бы боясь, что это слова могут преследовать меня, крикнул я. Дверного скрипа, как раньше, не последовало, а посему в душе поселилось отчаянное, но стойкое убеждение, что хозяйка голоса сейчас скрывается в тумане и возможно даже упорно смотрит на меня.
Было неприятно думать об этом и уж тем более ощущать на себе чей-то взгляд, в чем я не был все-таки до конца уверен. Но ощущение никуда не пропадало, а со временем только усиливалось: ожидание присутствия чего-то нематериального – невидимого и вместе с тем отвратительного. Гетера, дымя, неколебимо сидела на второй половине кровати. Наверное, надо было думать о чем-то более возвышенном, но сейчас, смотря на красивую женщину, смиренно изнывающую духоты, я чувствовал только безразличие.
Захотелось увидеть те черные глаза, еще недавно как провидение летавшие передо мной, и губы, источавшие невидимый виноградный запах. Я знал, я чувствовал, что будет дальше, так как мои мысли никогда не остаются без внимания извне, но никого или ничего не появилось: ни видения, ни намека на это видение, на вроде бы знакомые пепельно-угольные глаза и страстные искусанные до крови губы.
Я даже не заметил, как комната стала ненавязчиво меня отторгать: она наконец-то решилась меня отпустить, но я не видел и не слышал, не чувствовал ее щедрости. Вообще получается, что здесь – в этой комнате, в этом мире, снежной крошкой размывающей лица, – нет ответа на вопросы, нет самих вопросов, тревожащих умы миллионов, – нет вообще ничего. Ведь я здесь центр вселенной, а значит, если нет в моем мире ответов, значит я сам не знаю ничего.
Внезапно стало душно. Это комната подгоняла меня, давая понять, что нужно вовремя уйти, и уйти прямо сейчас. Очнувшись от исступления, я увидел, что дым стал менее густым, но разглядеть все равно что-либо было невозможно. Дышать стало немного легче: не чувствовалось запаха крепкого табака. Натягивая брюки на ноги, испещрённые рубцами, ожогами, пятнами гематом и клецками шрамов, я косо взглянул на дверь – желанную дверь. Своеобразный коридор, выеденной тропинкой среди дыма, вел к двери. Запах смрада резко ударил по глазам и ноздрям – еще одна уловка мистической комнаты. Подойдя к двери, я оглянулся назад: невидимые стены медленно таяли, туман забирался в коридор, плавно, без резких движений, аннексируя новые территории.
Мадам-сутенерша вроде бы как не заметила моего присутствия, но я знал, что только я здесь желанный гость, а значит, только на меня устремлены ее взгляды. Ее резкий поворот в мою сторону не был неожиданностью, но все же немного испугал меня. Вопросы тирадой сыпались с ее уст, а после безудержный, сумасшедший смех следовал за ними. Говорить с ней совершенно не хотелось, поэтому я запихнул несколько купюр в одну из складок ее вывалившегося живота, а затем ушел. Спускаясь по лестнице, я увидел в зеркале себя, но только поднимающегося вверх. «Когда же это было? – всматриваясь себе в глаза, недоумевал я. – Сегодня ли или в прошлый раз, а, может быть, в следующий?»
Уличная серость сменилась белоснежной коркой снега и падающими снежинками. Было холодно, но приятно. Приятно оттого, что после долго времяпрепровождения в душной и дымной комнате, я наконец-то смог вдохнуть относительно свежего, прохладного воздуха. Закуренная сигарета обжигала кончик носа и подбородок. В момент, когда еще недотлевший уголек падал к ногам, он пискливо шипел, соприкасаясь с влажной кашицей из воды и снега. Приятно покалывало кожу снежинками, падающими с небес.
Надо идти. Но куда идти, зачем идти? Зачем идти, если всюду нет конца, нет конечной точки, которая бы смогла определить смысл существования, чтобы раскрыть смысл наших терзаний, обусловленных только поиском этого самого конца. Искать тупик, чтобы просто его найти? чтобы, найдя его, мы смогли гордиться тем, что поиск завершен. Смысла от этого все равно никакого… только пустота, заполняющая те части вселенной, среди которой бродят наши тела, в которых не хватает эфирного вещества, именуемого смыслом. Легко найти себе смысл существования, но не так-то просто его оправдать…




