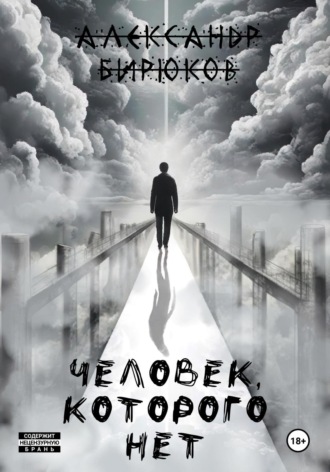
Александр Романович Бирюков
Человек, которого нет
Посвящаю этот роман самому прекрасному и самому отвратительному, самому эксцентричному и самому простому, самому любимому и самому ненавистному человеку, человеку, способному ввергать при одном упоминании о нем меня в ужас и в экстаз, сравнимый только с вечным блаженством иррационального несуществования, человеку имя которого ласкает слух так же, как и отторгает, – посвящаю этот роман самому себе.
«Истина есть, дорогой мой! Но «учения», которого ты жаждешь, абсолютного, дарующего совершенную и единственную мудрость, – такого учения нет. Да и стремиться надо тебе, друг мой, вовсе не к какому-то совершенному учению, а к совершенствованию себя самого. Божество в тебе, а не в понятиях и книгах. Истиной живут, ее не преподают»
Герман Гессе «Игра в бисер»
«Я глубоко убежден, что могу летать,
Но мне некуда лететь…»
Роджер Уотерс «Nobody Home»
Запись радиоэфира от 17 августа 19..г
– …И это уже не единичный случай в моей практике, но сейчас не об этом… В первую очередь мне бы хотелось сегодня, перед всеми вами, дорогие слушатели, раскрыть тайну человеческого мозга и, возможно, всего нашего существования в целом, потому что именно мое случайное открытие ведет к тому, чего некоторые совершенно не понимают и боятся, говоря вещи, противоречащие рациональному мышлению.
– Насколько я знаю, вчера прошел очередной съезд, на котором были представлены широкой огласке материалы вашей многолетней работы.
– Именно так, но послушайте…
– Нашим слушателям было бы интересно узнать, как отнеслись к вашим словам коллеги, ведь это немаловажно как для науки, так и для обычных людей, которые раньше никогда не задумывались о таких сложных процессах.
– Многие из моих коллег отнеслись к моим словам скептически и придерживались либо нейтралитета, либо совершенно иной точки зрения, нежели я, и это все при том, что бо́льшую часть жизни я занимаюсь человеческим мозгом и, в некоей мере, всем, что с ним связано. Но что главное: вчера были предоставлены неопровержимые доказательства немыслимого ранее, а, может быть, даже того, что человек пока, в силу своей узколобости, не в состоянии понять… и совершенно не важно, сколько времени потребуется «ученым», чтобы понять, насколько они ошибаются, называя меня неправым. Я открыл им путь в бесконечность, но они не хотят этому верить.
– Допустим. Мы сейчас не можем с точностью сказать, что вы правы, потому что отсутствие весомых доказательств в вашу пользу пока что не достигнуто ввиду очень скупой теоретической и практической части, но все же говоря начистоту, мы можем предположить, что все сказанное вами действительная правда. Итак, у меня совсем не возникает вопросов по поводу первого вашего тезиса, характеризующего личность, – я зачитаю то, что было сказано вами вчера: «Всевозможность – это способность индивидуума делать множество различных дел, иметь понятие обо всем, владеть несколькими ремеслами и проч. и проч., но в каждом случае слишком плохо». Вы первый ученый, который представил общественности статистику – никто до вас этого не пытался систематизировать, хотя, по-моему, этого совершенно не требовалось. Хорошо, с этим мы разобрались. Но не могли бы вы ответить на вопросы, которые не лишены трюизма, но все же существуют: почему «всевозможность»? и почему ваши объяснения так часто переходят на разговорный манер, разбавленный научной терминологией лишь отчасти?
– В этом нет ничего необычного: во-первых, я всегда пытаюсь донести смысл своих открытий не только для научной среды, но и для обычных людей, не знакомых не только с терминологией, но и с принципами данной науки вообще, – это, мне кажется, я довольно четко объяснил, – во-вторых, я совершенно не могу сказать вам почему именно такой термин пришел мне в голову, когда я добился некоторых результатов в своих исследованиях: проще говоря, это слово, которое теперь должно закрепиться за моими открытиями, пришло мне случайно, как и случайно мне пришла сама идея исследования в данной области.
– Хорошо.
– Это совершенно не важно, как назвать ту или иную болезнь или открытие.
– Вам кажется это рациональным?
– Послушайте, вам мало того, что «всевозможность» говорит нам о том, что человек имеет возможность во всем чего-то достичь? – вот вам и «возможность», и определение ее характерности.
– Продолжим. Второе определение, которое, как я понял, и является самой важной частью вашего открытия, звучит так: «Всевозможность – вид адаптации, способность человека подстраивать под себя видимое, осязаемое окружение. Вид психического заболевания или, реже, забвения, усталости…» и так далее и тому подобное. Не могли бы вы пояснить?
– Это значит, что человек, в некоторых случаях, имеет возможность подстраивать мир под себя – проще говоря, создавать для себя иллюзию, которой в нашем с вами мире не существует, видимую только для того, кто ее создал; при этом эта иллюзия для вообразившего ее субъекта так же реальна, как и для нас реален наш с вами мир: то есть придуманный человеком с психическим отклонением в его мире кинжал может нанести ему серьезные увечья, в то время как мы с вами ничего не увидим, больше говоря: он будет видеть кровь и раны, постепенно теряя сознание и способность к движению от истощения, когда мы с вами этого не увидим и не сможем никак зафиксировать, кроме импульсов его мозга.
– Я не совсем понимаю…
– …Видеть то, чего не существует, но что так хочется видеть, во что так хочется верить, изменяя мир у себя в голове. И это все зависит не только от психических отклонений, но и от способности мозга переносить и воспринимать эту информацию.
– Вы хотите сказать, что это такой же реальный мир? что человек может запросто умереть там, насытиться, поглощая пищу, или испытать удовольствие от владения воображаемой женщиной?
– Не каждый и не всё сразу, но, в целом, да, это именно так!
(На протяжении нескольких минут слышны помехи. Звуки голосов сильно искажены.)
– Позвольте же задать вам вопрос?..
– Да. Если это касается той темы, о которой мы сейчас говорили, то я отвечу вам на любой вопрос.
– Можете вы быть уверены сейчас, что все, что происходит с вами вокруг – это не иллюзия и это вам не кажется?..
(Запись прерывается)
Я стоял посреди улицы, вглядываясь в дома, вглядываясь в кирпичики, их кладку, цвет, полутона. Все это казалось таким странным и в то же время таким простым, что было очень просто сбиться с толку из-за противоречивых чувств, посетивших меня. И кто сказал, что жизнь похожа на сплетение миллионов случайностей? Разве не тот, кто и понятия не имеет, как это работает. Как же это называется, когда у тебя в голове происходит тысячи ярких вспышек, влекущих за собой сеть сложных установок, которые мы принимаем за желания и простые человеческие свойства характера? Что же происходит внутри нас, когда мы начинаем хотеть? Может быть, один единственный нейрон среди бесконечного числа n-ых взрывается, образуя новую вселенную, ведомую собственными чувствами и желаниями? Кто может опровергнуть мою сумбурную и ничем не обоснованную теорию возникновения мира? Да и тот, кто первый скажет, что это полный вздор и чепуха, тот первый исчезнет из того мира, который я придумал для себя сам, из того мира, которого нет. Почему же наш мир устроен так как он устроен? Вот он вопрос, достойный человечества, бродящего среди магазинных полок с ненужными броскими вещами и среди полок с гробовыми досками, приготовленными специально для тех, кто на них смотрит.
Я обратился к проходящему мимо мужчине, и совершенно неважно что я ему сказал, ведь даже для меня это остается загадкой. Его речь невнятна как и его вид: обыкновенное серое пальто, схожее с войлочной накидкой на плечи в морозный день сидящего у окна человека, да и ухмылка, говорящая о том, что он, несмотря на доброжелательность моего вопроса, отчетливо видит во мне негативно расположенного к нему незнакомца, или попросту какого-то противника, который почему-то подошел именно к нему, моментально превращаясь в человека «с гнильцой». Он хочет показать, что не может мне ничего дать хотя бы потому, что не хочет; и чем дольше он смотрит на меня, все чаще и чаще отводя взгляд куда-то, будто бы ища давно забытого знакомого, увиденного за моей спиной, формируя отговорки у себя в голове, тем больше я начинаю убеждаться в глубоко засевшем страхе в нем относительно любой мелочи, выходящей из разряда простоты и открытости. Он, потупившись, отвел взгляд, забывая меня так же постепенно, как и познавал меня, изучая еще недавно свои взглядом; через несколько длительных секунд этот мужчина уже не помнит меня, не помнит моих глаз, моих рук и даже моего голоса, который потонул в тишине.
Тогда я обратился к проходящей мимо женщине. Такой же пустой женский взгляд бегает из угла в угол, от стены к стене, выискивая что-то, такие же серые и невзрачные скулы, оттиском похожие на десятки таких же, как и у других женщин, стареющих слишком быстро, нежели бы им хотелось. Все кишит отпечатками, похожестями, и даже дрожащая рука, вытаскивающая мобильный телефон, маленькими крапинками-родинками, суживающими кожу, похожа на сотни, тысячи точно таких же по образу и подобию сложенных рук. Мысленно я знаю, что это за руки, что это за поры, вмятинами проросшие внутрь, вглубь кожного покрова, эти заусенцы, торчащие острыми углами, как щепки. И даже не столь важно, что я не только знаю, чьи эти руки, воображенные мной, но и то, что я видел их и вижу все время, постоянно оборачиваясь, надеясь за поворотом шеи увидеть что-то необычнее обыденности линий жизни, увиденных на ладонях сухих блеклых рук. Закатистый смех упирается в спину удивленной женщины, в то время как мое тело уходит от нее все дальше и дальше, а желание что-то иметь, что-то хотеть уже попросту смылось за серостью пыльных улиц, постоянно меняющихся в форме глаз, попросту не существующих улиц, по которым так незаметно прохаживаются маленькие люди, скорее даже мелкие, чем маленькие, но ничуть от этого не более важные или значимые для мира, способного меняться под воздействием мысли, сформированной мной.
И тут, наверное, надо сделать небольшую ремарку – отступление от вступления, которое плавно смешивается с повествованием, слегка отличаясь от общей части того мира, который мое тело и тело еще многих-многих людей прорезает своим естеством. Мысленно представляются некие страницы – которые я, впрочем, очень скоро должен забыть, – но все же сейчас такие важные, даже немного помпезные, пропитанные ортодоксальностью и невозможностью их невозможности, – маленькая книжка, существующая только в воздухе – на уровне субатомных частиц и импульсов мозга, вообразившим мысль. Страницы колыхались, перелистывались, но все они были пусты, кроме одной единственной страницы – самой последней, заключающей, представляющейся эпилогом и в то же время началом, как бы, по существу, альфой и омегой, изобличая собой мысль человека, уставшего от обыденности окружения и прогулок по всевозможности своих представлений о мире, который медленно угасал, умирал под воздействием не столько внешних сил, сколько дряхлостью изнутри, дряхлостью мысли, являющейся всем в этом мире и еще, возможно, невозможностью быть счастливым, не имея на это никакой причины и желания, привыкнув к константе мироощущения, преисполненного негативом. Последняя страница была испещрена рукописным текстом, совсем непонятным, но разборчивым при детальном и длительном рассмотрении. Там было написано:
1. [Определение]… Параллельные миры – это бесконечная цепь, вереница случайных миров, похожих друг на друга. Они никогда не соприкасаются друг с другом, но всегда имеют тесную связь, образуя тем самым вселенные и определяя наше мироздание.
2. Параллельные миры, находящиеся рядом друг с другом, немного, совершенно незначительно отличаются между собой. Они могут пересекаться, но от этого все равно ничего не изменится, так как они практически идентичны, подобны друг другу.
3. Параллельные миры, находящиеся далеко друг от друга, никак не могут соприкасаться и имеют значительные различия вплоть до того, что могут вообще не иметь ничего общего, но, тем не менее, через миллионы (или больше, или меньше) итераций похожи… и все же никак не могут вмешиваться в ход времени друг друга. Они никогда не соприкасаются, а значит идут по прямой с небольшими параболическими отклонениями, формируя бесконечную цепь, никогда не заканчивающуюся, идущую веером.
N. Люди, вопреки своей человеческой всевозможности в границах разумного, не могут влиять на этапы времени не своих миров (да и на свои тоже не сильно могут и не сильно влияют), но существуют люди, способные бывать там, где никто не может быть…
Так и хотелось прокричать: приглядитесь, приглядитесь, и вы увидите: мы все как одинаковые образцы для бесконечного размножения между собой, как бесконечные оттиски на единственно правильном листке бумаги, – черно-белые штрихи, контуры – очертания сами себя. Присмотритесь, и вы увидите движения, схожие с другими, точно такими же, сделанные невзначай индивидуумами: точно такие же лица и смех, уголки губ и формы глаз, тембры голоса, мягкий и немного узловатый в своих начинаниях; присмотритесь, и вы поймете, я уверен, поймете, что взмахи рук напоминают вам о ком-то из давно забытых друзей, возможно, оставленных во снах. Забытье – как способ уйти от дьявольских пороков, сделанных случайно, так сказать, ненавязчиво, но случайно, вы слышите? я говорю – слу-чай-но! Моргание глазами – как способ измельчить реальность до кадров, дающих возможность рассмотреть движение времени в секундах, остановленных специально для вас… для меня… для всех… Я знаю, вы уже способны увидеть в лицах незнакомых вам людей, проходящих мимо, замашки друзей, давно ушедших не туда, куда надо было, их морщины, хитрый взгляд в сторону, ухмылку, сделанную как бы случайно, но так, чтобы мы с вами смогли ее распознать по микроскопическим ямочкам, уходящим немного в сторону.
Мы все, мы все одинаковы, стоит только приглядеться к другим, и мы сможем разглядеть в них абрисы давно забытых мечтаний, или, или, может быть, снов, иллюзий, обманов, которыми травят детей, чтобы те поскорее уснули, погрузились в то состояние реальности, где все двоится; двоится даже сон, продолжая умножаться в геометрической прогрессии сна. Мы сможем понять, что мы – не мы, если немного приглядимся, если немножко всмотримся в лица тех, кто пробегает мимо с явной насмешкой над реалиями, которые мы сами строим для себя в виде ненужных форм; сознание, которое говорит нам, что мы индивидуальности, когда сама же дает нам возможность в этом усомниться. И где же тогда простые надежды на будущее, если мы так неприкосновенно лелеем мечту о том месте, где все будет хорошо, где есть о чем еще можно помечтать, полежать под знойными солнечными лучами и слушая разрывающие голову песни птах, их славное щебетание, где?..
Но неужели что-то дало сбой? что-то напомнило о себе простой ошибкой мозга, словно болезнь, мешающая спокойно жить, существовать, вести праздную жизнь в своих бесчисленных оковах счастья? Неужели, чтобы понять, что жизнь – нечто неказистое и невзрачное, нужно усомниться в ее реальности, усомниться в догматах, состряпанных когда-то давно обычными человеческими словами, записанными на небосводе светло-ультрамаринового цвета. Ах, неужели, неужели все настолько сложно, что так просто?
Мне всегда виделось это проще: я не хотел ждать случая, чтобы усомниться еще больше (ведь куда еще больше?), я не хотел рассматривать бесчисленное число оттисков, придуманных мною только для того, чтобы забыть, что это я придумал все это: себя, свое подсознание, свои фантазии, случайные идей, закопанные под дубом в соседнем парке в маленьком коричневом ящичке, обитым дерматином. Ведь выход прост – выйти за пределы своей придуманной реальности. Что мне мешает встать посреди улицы, среди безжизненных фантомов, проникающих сквозь меня, как это делают атомы вселенной, и крикнуть в бесплодную атмосферу бытия, и крик мой разнесется на сотни, тысячи верст, и словами, разрывающими раскаленный воздух, будут “cogito ergo sum!” Но я все же пока этого делать не хотел, не смел, – и все тут. Зачем все это, если мой мозг постоянно формировал неисчислимые потоки несоизмеримых между собой всплесков, показывая картины невиданных доселе фантасмагорий. И стоит ли думать, стоит ли рассуждать над всем этим, чтобы в конце услышать испещряющее “зачем”?
Лица людей проносились мимо меня туда, где не существует оков, где не существует ничего существенно важного, – и все это влетает в мой мозг посредством неисчислимого числа нейронов только затем, чтобы снова обратиться в моей голове неуловимым запахом бесконечных фотопсических галлюцинаций. Я сомневался в реальности человеческих лиц, которые подобно свойствам только моего тела, формировались так же, как когда-то формировалось мое тело, мои обвислые щеки, скулы, иссиня-фиолетовые мешки под глазами, которые способны вместить в себя весь тот бред, который блуждает под покровом ночи моих фантазийных спекуляций, а так же под покровом моего теплящегося тела, покрытого ворсом заиндевелых лесов, конечно же, в миниатюре. Это все было похоже на бред, с которым, надо сказать, я уже свыкся, бред, сковывавший мои члены невидимыми капроновыми нитями, которые срезали его, впиваясь в мой эпителий. Просторы ало-красных фланелевых полей, рубцами боли перекатывавшихся по телу, а затем встающих в ряды выжженных капроном следов от перетянутых нитей, которые еще недавно (а, быть может, все-таки давно) стягивали мои руки и ноги в том положении, в каком они еще были в девственном чреве материнского лона.
Никто не в состоянии определить важность высказываний, определяющих конъюнктуру действительности; никто не в состоянии даже определиться с выбором своих устоев, если не сказать догм, своего кредо, обязывающего индивида стремиться к совершенству путем самосовершенствования (пускай вас не пугает затейливый каламбур моей мозговой активности, которая породила столь заумные высказывания, увековеченные на листе бумаги). Кто смог бы мне рассказать о мире в целом, или, может быть, о какой-нибудь определенной его части? Ведь большинство даже не в состоянии сделать маленькую аннотацию к бессмертной части нашей культуры, жизни и других не замечаемых частях жизни, аспектах несуразных частиц нашего волеизъявления, – наоборот, все эти люди пытаются сказать нам, что знают мир в каждой многогранной его точке. Но как, спрашивается, как они могут познать мир, если это только кратковременная вспышка моего самолюбия, желавшего однажды создать сей мир для успокоения своего я, которое никак не могло приспособиться в другом – холодном и чуждом для моей натуры – мире. Как они, черт возьми, могут знать этот огромный мир, если этот мир только часть моего воображения, которое бродит по созданным мною улочкам, созданным мной траекториям, формулам, гласящим, что E равно не только , но еще и квадрат в квадратной его степени.
Карминовые кирпичи, сидевшие вразвалку в стенах домов по бокам от меня, сказали: «Хватит! Действительно хватит! Мы устали быть частью кирпичного дома, вываливаясь из стен, становиться кучкой кирпичной пыли уже без способности преобразиться, но только стать частью воздуха – стать частью взвеси, бесконечно бороздящей города, влетая через гортань в легкие людей, чтобы навсегда осесть там, осесть на экранах наэлектризованных телевизоров и наблюдать декадентство общепринятых суждение, а так же деградацию смотрящих людей и видеть в их глазах пустое угнетенное безумие, которое боится даже само себя. А потом, увидев влажную тряпку, сидя на кинескопе, напоследок думать: «Неужели их сморщенные дети смогут покорять космос так же, как когда-то его покоряли мы?!».
В детстве моя мать всегда говорила мне о том, что жизнь – это безостановочные перебежки жизненной энергии из одного сосуда в другой. Сосуд может быть абсолютно чем угодно, пускай то простая амфора, похороненная под толщей земли, или будь то человек. Конечно, говорила она это не совсем так, – намного проще, но все же смысл, закладываемый в словах, несущий в себе какую-то часть мысли, отдаленно напоминал это, мне только оставалось его отшлифовать и принять как идеал. Естественно, мы не можем утверждать наверняка, и уж тем более видеть, осязать эти краткие перебежки душ по миру, которые предстают в виде невидимых кочевников. Мы так же не можем утверждать, что они вообще существуют, но мне почему-то кажется, что моя мать была права, рассуждая о мире, как о большом генераторе, в котором при необходимости можно перекинуть часть энергии к слабым звеньям, дабы уравновесить анархию энергии; и в точности то же самое происходит в нашем, людском мире, где все относительно сбалансировано: где люди могут жить и надеяться, что именно они и являются слабым звеном, на котором и держится наш мир, – генератором, в котором всегда не хватает топлива.
Идя по дороге, я смотрел на свои ноги, на грязные запятнанные ботинки, которые терлись об антрацитовый асфальт, издавая едва уловимый звук шарканья. Мои брюки колыхались, не касаясь ног, а, посмотрев выше, можно увидеть, как брюки плавно переходят в галстук, который являлся главным атрибутом всего костюма, затмевая собой рубашку и пиджак, а так же кожу моих рук, темные густые жесткие волосы, выглядывающие из-под манжеты белоснежной рубашки и длинные неаккуратные ногти, под которыми все еще клубилась грязь от растоптанной и перебранной земли, которую эти руки еще с полчаса назад вычесывали на ближайшем кладбище.
В могиле моей умершей собаки ничего не было: ни костей, ни гнили, ни фанерного коричневого гробика, оббитого дерматином, в котором я еще недавно ее хоронил, а ведь это было всего три недели тому назад, – там не было абсолютно ничего, и не это ли чудесное стечение обстоятельств, которое мы называем волшебством, или лучше сказать черной магией. По мне же это просто склонность к фантазиям больного мозга, который просто стер воспоминание, а потом забыл его восстановить, когда тот или иной субъект отважился потревожить этот сегмент памяти, чтобы узнать: а правда ли все, что мы делаем, – реально? И казалось, что все не реально, что моей собаки как нет, так и не было, возможно, никогда, как не существует маленькой черной могильной плиты, которую я самолично поставил на место погребения, как не существует и человека, который ее сделал, как и места, где стоит это кладбище, как и земли, в которой я так тщательно скрупулезно копался, выкидывая червей за спину, но есть только запах, стоящий у меня в голове до сих пор – запах прелой земли, которую я растер по ямке над верхней губой, чтобы до сих пор чувствовать этот запах реальности, который отделяет меня реального от меня ирреального – сумасшедшего молодого человека, старика, прогуливающегося по улице в черном пиджаке с земляным пушком над устами.
«Все не реально! Все это было!» – твердил я себе, но это слабо помогало осознать общую картину выдуманной реальности, среди которой я обитал подобно червю в земле на несуществующем кладбище погибших людей… погибших грязных животных… погибших «кораблей», чей остов до сих пор скелетом смотрит мне в глаза щенячьим взглядом. А разрывающееся сердце исправно гнало ледяную кровь по океану моих страстей, где каждый из органов был похож на определенный материк: желудок – Евразия, разбухшая от алкоголя печень – Африка, два легких, как братья, – Южная Америка и Северная Америка, и сердце, подобное куску грязного осеннего льда, – Антарктида. Вот только у меня порой создавалось ощущение, что все они неправильно соединены между собой, будто бы их параллельность граничила не только с безумством, но и являлась таковой по своей сути; и я уже не был уверен, что толстая кишка не согнулась в замысловатый узор, чтобы притвориться мозгом, когда тот, свернувшись спиралью, стал частью пищеварительной системы.
Проходя мимо стекол витрин, я не мог увидеть себя в отражении, свой силуэт, до боли знакомые черты; но, останавливаясь, чтобы вглядеться в то место, где должен был быть мой двойник, я видел, как к пустоте подходила неяркая тень, а потом, боязливо озираясь по сторонам, перемещалась к тому месту, где стоял я, и встала в точно такую же позу, в которой я стоял. Делая движение, я наблюдал за тем, как поведет себя заторможенная тень. Ничего не происходило. Но когда я уже собирался уходить, пропуская несколько недвижимых минут сквозь себя, тень начинала преображаться, двигаться – повторять совершенные мною несколько мгновений назад движения. Тогда я начинал осознавать, что тень – это я, запаздывающая на несколько мгновений. Не это ли доказывает несущественность времени?! Я видел параллельную реальность, где зеркала – порталы, показывающие мою реальность несколькими секундами позже, несколькими бесценными-бесцельными мгновениями позже… Я прошел немного дальше, наблюдая как за мной волочится тень, пытаясь нагнать упущенное время параллельных аккумулятивных водяных плев. Мы – я и моя тень, – как одно целое, две безгранично разных, но в то же время близких бесконечности, которые болтаются на разных концах нескончаемой линии.
Как странно было видеть несостоятельность времени в нашем мире… в моем! Скрещивание двух бесцельно прожитых жизней, время которых протекает именно в моем мире, где реальность обуславливается лишь осознанностью моего внутреннего я мной. Ведь то, что я живу – это определенно важно только для одного меня, и больше ни для кого. Одинокая нить, показывающая предназначение судьбы, которая будет проходить еще миллиарды раз сначала и имеющая миллиарды однотипных концов, но только в других фрактальных вселенных, где все эти мысли уже думались и будут думаться снова. Черт возьми, это все было! Все было! И все будет вновь!..
Моя тень начала догонять меня, и на секунду меня это поразило, ведь она все же отклик настоящего, но никак не само настоящее, к которому тень так спешно приближалась. Она не могла слиться со мной. Мне было намного комфортнее в той реальности, где я был нематериален, а значит, ирреален и пуст.
Отражение-тень догоняла, но я не мог ей сопротивляться, но вместо этого смирился с ее стремлением поравняться со мной и стал ждать, когда та ворвется в мое тело. Но, вопреки ожиданию, тень не вошла в меня, а побежала дальше, отражаясь в витринах точно так же, как и я. Теперь уже мне пришлось догонять ее. Я видел, как, спотыкаясь, падало мое отражение на асфальт, издирая брюки до дыр, а затем отряхивая руки от грязной черной воды, бежало дальше; за тенью, напротив того места, где падала она, падал я, точно так же издирая брюки и точно так же отряхивая руки от водной пленки. Мы были нереальной субстанцией, потерянной в реальности этого мира, и теперь мы боролись за выживание, показывая, кто из нас все-таки реален, а кто нет, будто бы проигравший мог раствориться, давая жить тому, кто окажется впереди этого «грязного» марафона.
Отражение остановилось, а затем остановился и я, вглядываясь в неразборчивый силуэт пиджака и измятой шляпы на голове этого проходимца, назвавшегося мной по чистой случайности. Он трогал витрину с той стороны точно так же, как я еще недавно трогал витрину в самом начале этого забега. Затем я, поддаваясь необъяснимой силе, стал повторять за своим отражением, трогая витрину так, как трогал он. Я не видел, как косились на меня люди с той стороны стекла – в магазине, – не осознавал их важность, реальность, и вообще их существование. Мне стало очевидно ясно, что между этим забегом лежит временной отрезок, смешавший меня со мной же, что я сейчас касался самого себя в том времени, когда я был в начале этого квартала и трогал себя, но только прошлого себя; теперь же я трогал будущего себя, себя, который будет на том месте, где я стою сейчас, но только чуть позже. Я видел свое лицо в отражении, но не видел себя тем, кем являлся в данную секунду. Запах гнили и земли снова мягко ударил в голову, словно удар подушкой в разгар алкогольной подростковой вечеринки. «Все не реально! Здесь только я реален, только я создатель, но не ты!» – тыча пальцем в стекло, говорил я, повторяя лишь движения моего визави, вспоминая, что еще сам недавно тыкал в витрину, ожидая, как тень тыкнет мне в ответ.
Желтые зубы, шероховатость которых я ощущал языком, истошно болели, нагнетая пульсирующую боль под самый корень, где тот связками впивался в основание десен, облачая их красно-розовым цветом, чтобы я мог видеть натуральный цвет крови у себя во рту каждый раз, когда вглядывался в зеркало. При вдохе ноздри медленно сужались, а при выдохе расширялись: и воздух имел плотность, которая по десятибалльной шкале варьировалась от трех до четырех; иногда воздух, конечно, достигал условной единицы в пять баллов, но только в том случае, когда мой мозг кипел, бурлящими пузырями слизи взрываясь, как волдыри, в моей голове, выдавая ошибки созданной реальности, и тогда казалось, что дышать в том понимании, к которому мы привыкли, уже нельзя, и тогда приходилось руками вдалбливать воздух. Как будто выковыривая его из бадьи с медом, я руками загребал вязкую жидкость, а потом пихал в себя, чтобы вкусить сладкую вязкость загустевшего нектара, собранного мелкими паразитами, которые, в отличие от нас, знают, что такое ходить строем. А потом, когда слезы выталкивали мед из глаз, я смотрел на светотень и думал: «Наверное, такой нектар употребляли боги, пуская его внутривенно».
Вот что было интересно: на мгновение я погряз в образах, представляя себе паразитов, развивая эту мысль. Я не думал о том, что хочу сказать, потому что, скорее всего, это наверняка произошло бы по-настоящему. Огромные, ростом с человека, пчелы с касками на голове цвета хаки, с винтовками в руках, на которых блестят штыки, их черно-желтые тела, где ворсинки плотно прижаты к телу, измазанные нектаром цветов, которые устами провожали своих любовников на войну, их обезумевшие, но в то же время пустые глаза, нацеленные только на то, чтобы убивать, не зная жалости, их мохнатые лапы и грязные рты с огромными клешнями, которые спокойно откусывают шею, обхватывая головы людей, даже не замечая, что она полностью соткана из жил; огромные теперь усики, которые впиваются в глаза своему противнику, выдавливая все виденное человеком, забирая все это себе, и пугающие, до боли пугающие, огромные бездонные глаза, которое они смотрят одновременно никуда и в то же время видят все. А за этими бессмертными полками стоит их матка, чьи размеры в сотни раз больше обычной пчелы. Она не убивает, но только поедает размазанных до однородной массы врагов, чей кровяной сок так сладок. В стороне стоят шмели, такие же большие как войны-пчелы, но они, в отличие от кровожадных убийц пчел, просто стоят в стороне, придерживаясь нейтралитета, смотрящие как огромные насекомые вскрывают животы людям, а затем раздирают их внутренние органы своими мощными клещами. Тогда действительно стало понятно, почему некоторые говорят о насекомых, как об особях наиумнейших, вот только заключается ли это в том, что они могли бы действительно уничтожить нас всех, имея такие же пропорции тела как у людей? или дело только в том, что они не умеют убивать по своему желанию? в отличие от человека…За время моей прогулки в голове проскакивали картинки моих мысленных свершений, и они, хоть это и не было так заметно, влияли на мой мозг и нервную систему, как сильнодействующие галлюцинации, постепенно, но верно. Я не видел ничего необычного, но уже через несколько минут окружение начало меняться.




