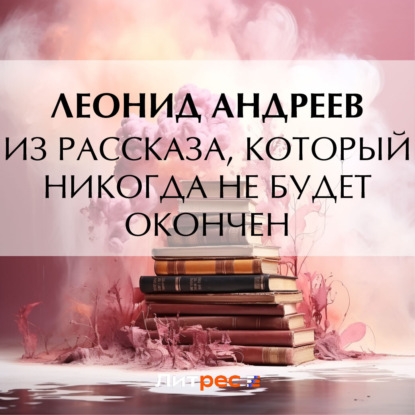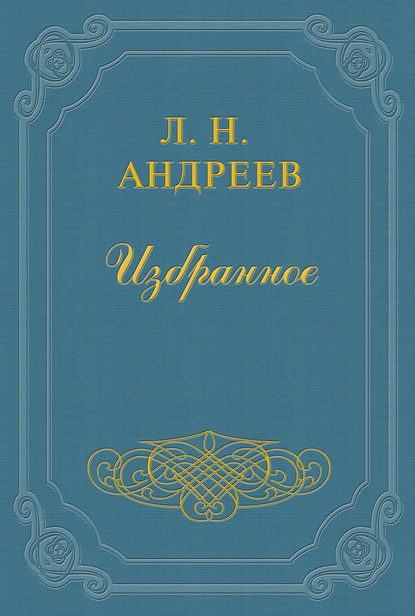 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Леонид Николаевич Андреев Губернатор
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Леонид Андреев
ГУБЕРНАТОР
Уже пятнадцать дней прошло со времени события, а он все думал о нем – как будто само время потеряло силу над памятью и вещами или совсем остановилось, подобно испорченным часам. О чем бы он ни начинал размышлять – о самом чужом, о самом далеком, – уже через несколько минут испуганная мысль стояла перед событием и бессильно колотилась о него, как о тюремную стену, высокую, глухую и безответную. И какими странными путями шла эта мысль: подумает он о своем давнем путешествии по Италии, полном солнца, молодости и песен, вспомнит какого-нибудь итальянского нищего – и сразу станет перед ним толпа рабочих, выстрелы, запах пороха, кровь. Или пахнёт на него духами, и он вспомнит сейчас же свой платок, который тоже надушен и которым он подал знак, чтобы стреляли. В первое время эта связь между представлениями была логичной и понятной и оттого не особенно беспокойной, хотя и надоедливой; но вскоре случилось так, что все стало напоминать событие – неожиданно, нелепо, и потому особенно больно, как удар из-за угла. Засмеется он, услышит точно со стороны свой генеральский смех и вдруг возмутительно ясно увидит какого-нибудь убитого – хотя он тогда и не думал смеяться, да и никто не смеялся. И услышит ли он звяканье ласточек в вечернем небе, взглянет ли на стул, самый обыкновенный дубовый стул, протянет ли руку к хлебу – все вызывает перед ним один и тот же неумирающий образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь. Точно он жил в комнате, где тысячи дверей, и какую бы он ни пробовал открыть, за каждой встречает его один и тот же неподвижный образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь.
Сам по себе факт был очень прост, хотя и печален: рабочие с пригородного завода, уже три недели бастовавшие, всею своею массою в несколько тысяч человек, с женами, стариками и детьми, пришли к нему с требованиями, которых он, как губернатор, осуществить не мог, и повели себя крайне вызывающе и дерзко: кричали, оскорбляли должностных лиц, а одна женщина, имевшая вид сумасшедшей, дернула его самого за рукав с такой силой, что лопнул шов у плеча. Потом, когда свитские увели его на балкон, – он все еще хотел сговориться с толпой и успокоить ее, – рабочие стали бросать камни, разбили несколько стекол в губернаторском доме и ранили полицеймейстера. Тогда он разгневался и махнул платком.
Толпа была так возбуждена, что залп пришлось повторить, и убитых было много – сорок семь человек; из них девять женщин и трое детей, почему-то все девочек. Раненых было еще больше. Вопреки настояниям окружающих, подчиняясь чувству какого-то странного, неудержимого и мучительного любопытства, он поехал смотреть убитых, сваленных в пожарном сарае третьей полицейской части. Конечно, не нужно было ездить; но, как у человека, сделавшего быстрый, неосторожный и бесцельный выстрел, была у него потребность догнать пулю и схватить ее руками, и казалось, что если он сам посмотрит на убитых, то что-то изменится к лучшему.
В длинном сарае было темно и прохладно, и убитые, под полосою серого брезента, лежали двумя правильными рядами, как на какой-то необыкновенной выставке: вероятно, к приезду губернатора подготовились и убитых уложили в наилучшем порядке, плечом к плечу, лицом вверх. Брезент закрывал только голову и верхнюю часть туловища, ноги, точно для счета, оставались на виду – неподвижные ноги, одни в стоптанных, рваных сапогах и ботинках, другие голые и грязные, странно белеющие сквозь грязь и загар. Дети и женщины были положены особо, в сторонке; и в этом опять-таки чувствовалось желание сделать как можно более удобным обозрение трупов и их подсчет. И было тихо – слишком тихо для такого множества людей, и вошедшие живые не могли разогнать тишины. За дощатой тонкой перегородкой возился около лошади конюх; видимо, и он не подозревал, что за стеною есть кто-нибудь, кроме мертвых, потому что говорил лошади спокойно и сердечно:
– Тпрру, дьявол! Стой, когда говорят.
Губернатор взглянул на ряды ног, уходивших в темноту, и сдержанным басом, почти шепотом сказал:
– Однако много!
Из-за спины его выдвинулся помощник пристава, очень молодой, с безусым, угреватым лицом и, козыряя, громко доложил:
– Тридцать пять мужчин, девять женщин и трое детей, ваше превосходительство.
Губернатор сердито поморщился, и помощник пристава, козырнув, вновь пропал за его спиной. Ему еще хотелось, чтобы губернатор обратил внимание на дорожку между трупов, которая была тщательно прометена и слегка присыпана песком, но губернатор не заметил, хотя внимательно смотрел вниз.
– Детей трое?
– Трое, ваше превосходительство. Прикажете снять брезент?
Губернатор молчал.
– Тут есть разные лица, ваше превосходительство, – почтительно настаивал помощник пристава и, приняв молчание за согласие и внезапно перейдя на громкий шепот, распорядился: – Иванов, Сидорчук, живо, за тот конец, ну-ну!
С тихим шуршанием пополз грязно-серый брезент, и одно за другим выплыли белые пятна лиц, бородатых и старых, молодых и безбородых, все разных, но объединенных между собою тем страшным сходством, какое придает смерть. Ран и крови почти не видно было, они остались где-то под одеждой, и только у одного глаз, выбитый пулей, неестественно и глубоко чернел и плакал чем-то черным, похожим в темноте на деготь. Большинство смотрело совершенно одинаковым белым взглядом; некоторые жмурились, так же одинаково, и один закрывал рукою лицо, точно от сильного света; и помощник пристава страдальчески взглянул на этого мертвеца, нарушившего порядок. Губернатор знал наверное, что эти именно лица были сегодня в толпе, в ближайших к нему рядах, и на многих он, наверное, смотрел, когда разговаривал с ними, – но теперь не мог узнать никого. То новое и общее, что придала им смерть, делало их совершенно особенными. Они лежали мертвенно-неподвижно, прилипая к земле, как гипсовые фигуры, у которых один бок срезан плоско для устойчивости, и в эту неподвижность не верилось, как в обман. Они молчали, и в это молчание не верилось, как и в неподвижность; и так выжидающе-внимательны они были, что даже неловко было говорить в их присутствии. Если бы вдруг, сразу, окаменел город со всеми людьми, которые идут и едут, остановилось солнце, замерла листва и замерло все, – он, вероятно, имел бы такой же странный характер незавершенного стремления, внимательного ожидания и загадочной готовности к чему-то.
– Осмелюсь спросить, прикажете заказать гробы, ваше превосходительство, или же в братскую могилу? – громко, не догадываясь, спросил помощник пристава; важность события, переполох допускали, казалось ему, некоторую почтительную фамильярность. И он был молод.
– Какую братскую могилу? – невнимательно спросил губернатор.
– Это, ваше превосходительство, роется такая большая яма…
Губернатор резко повернулся и пошел к выходу; когда он садился в коляску, он слышал еще громкий скрип ржавых петель: то запирали мертвых.
На следующее утро, побуждаемый все тем же мучительным любопытством и желанием продолжить, не давать совершиться, не давать окончиться тому, что уже совершилось и окончилось, он посетил в городской больнице раненых. Мертвые – те глядели на него, а от этих он не мог дождаться взгляда; и в этом упорстве, с каким отводились от него взоры, он почувствовал бесповоротность совершившегося. Кончено, что-то огромное кончено, и больше не за чем и некуда протягивать руки.
И вот с этого мгновения для него как будто остановилось время и наступило то, чему он не мог прибрать имени и объяснения. Это не было раскаяние, – он сознавал себя правым; это не было и жалостью, тем мягким и нежным чувством, которое исторгает слезы и одевает сердце мягким и теплым покровом. Он спокойно, как о фигурах из папье-маше, думал об убитых, даже о детях; сломанными куклами казались они, и не мог он почувствовать их боли и страданий. Но он не мог не думать о них, он продолжал видеть их ясно – эти фигурки из папье-маше, эти сломанные куклы – и в этом была страшная загадка, что-то похожее на чародейство, о котором рассказывают няньки. И для всех людей со времени события прошло четыре – пять – семь дней, а для него как будто и часа одного не прошло, и он все там, в этих выстрелах, в этом взмахе белого платка, в этом ощущении чего-то бесповоротно совершающегося – бесповоротно совершившегося.
И он уверен, что скоро успокоился бы и позабыл то, о чем нет смысла помнить и думать, если бы окружающие меньше обращали на него внимания. Но в их обращении, в их взглядах и жестах, в почтительно участливых речах, обращенных точно к неизлечимо больному, звучит твердая уверенность, что он думает, не может не думать о происшедшем. Полицеймейстер через день успокоительно докладывает, что вот еще два-три раненых выздоровели и выписались из больницы; жена, Мария Петровна, каждое утро пробует губами его голову, не горячая ли, – как будто он ребенок, а убитые – зеленое, которого он перекушал. Какой вздор! А через неделю после события приехал с визитом сам преосвященный Мисаил, и после первых фраз ясно стало, что он заботится о том же, о чем и все, и хочет успокоить его христианскую совесть. Рабочих назвал злодеями, его – умиротворителем, и – хитрый! – не привел ни одного заезженного и выдохшегося текста, зная хорошо, что губернатор не особый охотник до поповского красноречия. И противен и жалок показался ему этот старик, бесцельно лгавший перед своим Богом.
Во время разговора архиерей обыкновенно подставлял собеседнику ухо; и, покраснев от гнева, – он сам чувствовал, как горячо стало его глазам, – губернатор сложил губы трубой и гулко загрохотал в наклоненное к нему бескровное, мягкое ухо, покрытое седеньким пушком:
– Злодеи-то – злодеи. А я бы, ваше преосвященство, будь я на вашем месте, отслужил бы панихиду по убиенным.
Архиерей отстранил ухо, развел над животом сухими, как гусиные лапы, руками и, склонив голову, кратко сказал:
– На всяком месте свои терния. Я вот на вашем месте, ваше превосходительство, совсем и стрелять-то бы не стал, дабы не утруждать духовенство панихидами, да ведь что же поделаешь: злодеи!
Потом он любезно преподал благословение и, шурша шелком, поплыл к выходу, и вид имел такой, будто кланяется всему, мимо чего проходит, и все благословляет. В прихожей он долго и любовно возился с глубокими, как корабли, калошами и с одеванием, поворачивал ухо то направо, то налево; а губернатору, который с отвращением, из необходимой вежливости, помогал ему облачаться, твердил с убедительной ласковостью:
– Не утруждайте себя, ваше превосходительство, не утруждайте.
Из этого опять-таки выходило, что губернатор неизлечимо больной человек, которому вредно всякое усилие.
В тот же день приехал из Петербурга в недельный отпуск сын-офицер, и хотя сам он не придавал никакого значения своему необычному приезду, был шутлив и весел, но чувствовалось, что привлекла его сюда все та же непонятная забота о губернаторе. О событии он отозвался очень легко и передал, что в Петербурге восхищаются мужеством и твердостью Петра Ильича, но настойчиво советовал вытребовать сотню казаков и вообще принять меры.
– Какие меры? – удивился хмуро губернатор, но толку добиться не мог.
Тем более удивительны были все эти заботы, что в городе с того самого дня царило полное спокойствие. Рабочие тогда же приступили к работам; прошли спокойно и похороны, хотя полицеймейстер чего-то опасался и держал всю полицию наготове; ни из чего не видно было, чтобы и впредь могло повториться что-либо подобное событию 17 августа. Наконец из Петербурга, на свое правдивое донесение о происшедшем, он получил высокое и лестное одобрение, – казалось бы, что этим все должно закончиться и перейти в прошлое.
Но оно не переходит в прошлое. Точно вырвавшись из-под власти времени и смерти, оно неподвижно стоит в мозгу – этот труп прошедших событий, лишенный погребения. Каждый вечер он настойчиво зарывает его в могилу; проходит ночь, наступает утро – и снова перед ним, заслоняя собою мир, все собою начиная и все кончая, неподвижно стоит окаменевший, изваянный образ: взмах белого платка, выстрелы, кровь.
IIГубернатор давно закончил прием, собирается ехать к себе на дачу и ждет чиновника особых поручений Козлова, который поехал кое за какими покупками для губернаторши. Он сидит в кабинете за бумагами, но не работает и думает. Потом встает и, заложив руки в карманы черных с красными лампасами штанов, закинув седую голову назад, ходит по комнате крупными, твердыми, военными шагами. Останавливается у окна и, слегка растопырив большие, толстые пальцы, внушительно и громко говорит:
– Но в чем же дело?
И чувствует, что, пока он думал, он был просто человек, как всякий другой, Петр Ильич, а с первым же звуком голоса, с этим жестом он сразу стал губернатором, генерал-майором, его превосходительством. Становится неприятно, мысли разбиваются и бегут; и резко, по-губернаторски, дернув левым погоном, он отходит от окна и снова меряет комнату. «Так – ходят – губернаторы», – думает он нелепо, в такт крупным и твердым шагам, и садится опять, стараясь не шевелиться, чтобы каким-нибудь неосторожным движением снова не вызвать в себе губернаторского. Звонит.
– Не приезжал?
– Никак нет, ваше превосходительство.
И пока лакей, почтительно изогнувшись, мягко излагает титул, он внезапно вспоминает: «Ах, да, ведь там побиты стекла, а я еще не смотрел. До сих пор еще не смотрел».
– Когда приедет, скажи, я буду в зале.
Рамы в высоких окнах делились по-старинному на восемь частей, и это придавало им характер унылой казенщины, сходство с сиротским судом или тюремной канцелярией. В трех ближайших к балкону окнах стекла были вставлены заново, но были грязны и хранили мучнистые следы ладоней и пальцев: очевидно, никому из многочисленной и ленивой челяди в голову не пришло, что их нужно помыть, что нужно уничтожить всякие следы происшедшего. И всегда так: скажешь – сделают, а не скажешь – сами никогда не пошевельнут пальцем.
– Сегодня же вымыть. Безобразие!
– Слушаю, ваше превосходительство.
Захотелось выйти на балкон, но неудобно было привлекать на себя внимание проходящих, и сквозь мутное стекло он стал разглядывать площадь, на которой тогда бесновалась толпа, трещали выстрелы и сорок семь беспокойных людей превратились в спокойные трупы. Рядом, нога к ноге, плечо к плечу – как на каком-то парадном смотру, на который глядеть снизу.
Спокойно. Перед самым окном стоял тополь с ободранною мочалившеюся корою, уже окрашенной осенью, а за ним, спокойная и сонная, лежала под солнцем площадь. По ней почти не бывало езды, и круглые камешки лежали ровно, как бусинки, и кое-где проглядывала между ними зеленая травка, густея в ложбинах и канаве. Безлюдная, глухая, немного наивная была площадь, но оттого ли, что он смотрел сквозь мутные и грязные стекла, все казалось скучным, бестолковым, изнывающим в чувстве тупой и безнадежной тошноты. И хотя до ночи было далеко, все это – и ободранный тополь и ровные камешки, по которым никто не ездит, – точно умоляло ночь прийти скорее и мраком своим погасить их ненужную жизнь.
– Не приезжал?
– Никак нет, ваше превосходительство.
– Когда приедет, проси сюда.
По-видимому, зала оклеивалась при старом губернаторе, а быть может, и еще раньше – так грязны и закопчены были дорогие тисненые обои; и от медных отдушников в замаскированной обоями печи тянулись черно-желтые потоки, как из неаккуратного старческого рта. Зимою, при народе, при вечернем освещении все это не замечалось, а теперь лезло в глаза своим нарядным убожеством и мутило. Вот картина: какой-то итальянский лунный пейзаж – висит он криво, и никто этого не замечает, и кажется, что всегда висел он так, и при старом губернаторе, и при том, который был еще раньше. Мебель тоже дорогая, но просиженная, потертая, пропитанная пылью, – похоже вообще на номер в дорогой гостинице, где сам хозяин давно умер от удара, а дело ведут неряшливые, вечно ссорящиеся между собою наследники. И ничего не было своего: даже альбом с карточками был чужой, казенный или кем-то здесь позабытый: вместо лиц друзей и близких шли виды города – семинария и окружной суд, – четыре незнакомые чиновника, два сидят и два стоят над ними – какой-то выцветший архиерей – и круглая дыра до самого переплета.
– Какая мерзость! – громко сказал губернатор и брезгливо бросил альбом.
Рассматривал карточки он стоя и, повернувшись на каблуках, дернув погоном, сердито зашагал прямыми твердыми шагами: «Так ходят губернаторы. Так – ходят – губернаторы».
Так ходил по этой казенной квартире и прежний губернатор, и тот, что был до него, и другие, неизвестные. Откуда-то являлись, ходили твердыми и прямыми шагами, а над ними боком висел итальянский пейзаж, устраивали приемы, даже танцы, а потом куда-то исчезали. Быть может, тоже в кого-нибудь стреляли – что-то в этом роде было при третьем до него губернаторе.
По безлюдной площади прошел маляр, весь измазанный краской, с ведром и кистью – и опять никого. С ободранного тополя внезапно оторвался желтый дырявый лист и, кружась, поплыл книзу – и сразу вихрем в голове закружились: взмах белого платка, выстрелы, кровь. Встают ненужные подробности: как он приготовлял платок для сигнала. Он заранее вынул его из кармана и, зажав в маленький твердый комок, держал в правой руке; потом осторожно расправил его и быстро махнул, но не вверх, а вперед, словно бросал что. Словно бросал пули. И вот тут он перешагнул через что-то, через какой-то высокий, невидимый порог, и железная дверь с громким скрипом железных петель захлопнулась сзади – и нет возврата.
– Ах, это вы, Лев Андреевич! Наконец-то, я вас заждался.
– Простите, Петр Ильич, но в этом дрянном городишке ничего не достанешь.
– Ну, едем, едем. Да, послушайте! – Губернатор остановился и раздраженно, сделав рот трубой, заговорил. – Почему это во всех наших присутственных местах такая грязь? Возьмите нашу канцелярию. Или был как-то я в жандармском управлении – так ведь это что же такое! Ведь это же кабак, конюшня. Сидят люди в чистых мундирах, а кругом на аршин грязи.
– Денег нет.
– Вздор! Отговорки! А это, – губернатор широко обвел рукою, – вы взгляните, что же это такое. Это же мерзость.
– Петр Ильич! Да кто же вам мешает переделать по-своему. Ведь уж сколько раз я предлагал это Марии Петровне, и ее превосходительство вполне разделяет…
Уже на ходу губернатор отрывисто бросил:
– Не стоит.
Чиновник сочувственно взглянул на его широкую спину, жилистую шею, двумя колонками подпирающую череп, и, вкладывая в голос беззаботность, сказал:
– Да, кстати. Встретил сейчас Судака, говорит, что вчера последнего раненого выписали. Самого тяжелого, почти никакой надежды не было, что поправится. Удивительно живучий народ.
Судаком в губернаторском домашнем кругу назывался полицеймейстер – за свои вытаращенные бесцветные глаза, длинный рост и узкую рыбью спину.
Губернатор не ответил. На подъезде его сразу охватило осенней свежестью и солнечным теплом – как будто существовали они отдельно, и свежесть и тепло, и чувствовались также порознь. И небо было милое: нежное, далекое, неожиданное и прелестно голубое. Хорошо теперь на даче!
Он уже сидел в коляске, сторонясь, чтобы дать место влезавшему с левой стороны чиновнику, когда мимо подъезда, согнувшись, прошел какой-то человек. Снимая для поклона картуз, он закрыл локтем лицо, и губернатор увидел только его курчавый, белокурый затылок и загорелую, молодую шею и заметил, что шагает он осторожно и неслышно, как босой, шагает и горбится и прячется в себя и спина его словно смотрит назад. «Какой неприятный и странный человек», – подумал губернатор. То же подумали, видимо, два господина, поспешно усаживавшиеся впереди коляски на извозчика: привычным и согласным движением они заглянули прохожему в лицо, ничего подозрительного не нашли и понеслись впереди губернатора. Извозчик у них был лихач, на резинах, колеса подпрыгивали, и кузов пролетки колыхался, и сидели они наклонившись вперед, для быстроты, и скоро далеко ушли, чтобы не пылить губернатору.
– Кто эти двое? – спросил он чиновника, искоса подозрительно глядя на него, и тот равнодушно ответил:
– Агенты.
– А зачем это? – так же отрывисто спросил губернатор.
– Не знаю, – уклончиво ответил Лев Андреевич. – Судак все старается.
При повороте на Дворянскую улицу блеснул на солнце лаком сапог и молодцевато козырнул безусый помощник пристава, тот, что демонстрировал трупы, а когда проезжали мимо части, из раскрытых ворот вынеслись на лошадях два стражника и громко захлопали копытами по пыли. Лица у них были полны готовности, и смотрели они оба не отрываясь в спину губернатора. Чиновник сделал вид, что не заметил их, а губернатор хмуро взглянул на чиновника и задумался, сложив на коленях руки в белых перчатках.
Дорога на дачу шла через окраину города, по Канатной улице, где в полуразвалившихся лачугах и частью в двухэтажных кирпичных домах казенной стройки жили заводские с семьями и всякая городская беднота. Губернатору хотелось кому-нибудь ласково поклониться, но улица была пуста, как ночью, и даже не видно было детей. Один мальчишка мелькнул на заборе, в красных листьях рябины – и быстро скользнул вниз, за забор, притаившись, очевидно, у широкой щели. Летом попадались на Канатной куры и грязные поджарые поросята, привязанные к колышкам, но теперь не было и их, – очевидно, трехнедельная голодовка подобрала все. Непосредственно ничто не напоминало события, но в пустынности улицы, равнодушной к проезду губернатора, была тяжелая, сосредоточенная дума опущенных глаз, и в прозрачном воздухе чудился легкий запах ладана.
– Послушайте, – вскрикнул губернатор, хватая чиновника за колено. – Ведь этот человек…
– Какой человек?
Губернатор не ответил. Он крепко сжимал колено и всем лицом смотрел на чиновника – словно в запертом и заколоченном доме сразу распахнулись все двери и окна. Потом сдвинув брови в толстую, старчески мясистую складку, он медленно, всем широким туловищем обернулся назад и внимательно посмотрел на дорогу. Хлопали копытами по пыли стражники, и безлюдная, одной стороной утонувшая в черной тени, на другой ярко освещенная солнцем, таилась в глубокой думе улица. Сбежавшись в кучу, как испуганное грозою стадо, жались друг к другу домишки с дырявыми крышами, переломанными коньками, выпертыми вперед, как стариковские подбородки, окнами. Потом пустырь, остатки забора, забитый колодец, с опустившейся вокруг землею – и огромные липы за высокой полуразобранной огорожей, большой барский дом, какими-то судьбами попавший в это захолустье, давно уже не жилой, дряхлый, с закрытыми ставнями и заржавевшей от времени железной дощечкой: «Сей дом продается». Дальше опять домишки и три подряд голые, кирпичные корпуса без орнаментов, с редкими ввалившимися окнами. Они еще новы; видна засохшая известь, и не заделаны углубления, на которых держались подмостки, – но уже безнадежно грязны, запущены. На тюрьму они похожи, и жизнь в них должна быть такая же тоскливая, безнадежная, замкнутая, как в тюрьме.
Вот и выезд в поле и последний домишко – без одного деревца вокруг, без забора; весь он остро наклонился вперед, и стена и крыша, как будто кто сильною ладонью ударил его в спину, и ни в окнах, ни около – ни одного человека.
– А трудно будет вам, Петр Ильич, ездить здесь осенью. Здесь ведь, наверное, грязь невылазная.
Губернатор смотрел в сторону и молчал. И лицо его медленно закрывалось – как будто вновь по одному закрывали все окна и двери в глухом заколоченном доме.
IIIБыло много веселых игр, смеха и песен – на следующее утро уезжал в Петербург сын Петра Ильича, офицер, и знакомые собрались проводить его. На зеленых лужайках и прогалинах, под золотом и багрянцем листьев, в изумрудной прозрачности освещенных лесных далей, рассыпались такими же гармоничными и яркими пятнами красивые платья женщин и мундиры военных. Когда погасла кровавая, почти зимняя заря и по небу зачертили падающие звезды, пускали фейерверк – громко трескающиеся ракеты, огненные фонтаны, колеса. Удушливый дым ползал под старыми, строгими деревьями, и, когда зажгли красный бенгальский огонь, фигуры бегающих людей превратились в какие-то уродливые, судорожно мечущиеся тени.
Полицеймейстер Судак, сильно выпивший за обедом, благосклонно глядел на всю эту веселую суматоху, остроумно козырял дамам и был счастлив. И когда из дымной темноты рядом с ним послышался голос губернатора, ему захотелось поцеловать его в плечо, осторожно обнять за губернаторскую талию – сделать что-нибудь такое, что выражало бы преданность, любовь и удовольствие. Но вместо этого он приложил руку к левой стороне мундира, бросил в траву только что закуренную папиросу и сказал:
– Ах, ваше превосходительство, какой волшебный праздник!
– Послушайте, Илиодор Васильевич, – перебил губернатор сдержанным басом, – зачем вы посылаете каких-то агентов? К чему это?