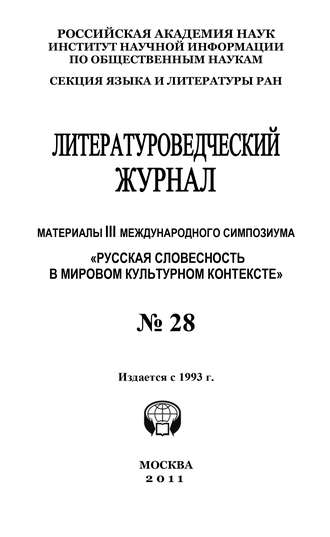
Александр Николюкин
Литературоведческий журнал № 28: Материалы III Международного симпозиума «Русская словесность в мировом культурном контексте»
«ЗАПАДНИКИ», ГРЕКОФИЛЫ И ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ КАК ЧИТАТЕЛИ «МЕЧА ДУХОВНОГО» ЛАЗАРЯ БАРАНОВИЧА
Е.Ю. Матушек
Александр Белецкий называл главным направлением историко-литературной науки исследование, с одной стороны, восприятия произведения его современниками и ближайшими потомками, а с другой – влияния текстов на дальнейший ход литературного развития1. Автор отмечал, что нужна классификация литературы каждой эпохи по читательским группам, в которых она востребована2. Ученый акцентировал на необходимости изучения взаимоотношений этих групп и писателя. Кто и какие книги читал в XVII в. можно воссоздать по каталогам монастырских, церковных, школьных и частных библиотек, а также по переписке, пометкам на маргинесе, посвящениям книг. Мы постараемся реконструировать круг российских читателей сборника «Меч духовный» украинского проповедника второй половины XVII в. Лазаря Барановича, а также исследовать восприятие этой книги на материале суждений первых читателей.
60-е годы XVII в. отмечены активной европеизацией российского общества. В этот процесс были включены и выпускники Киево-Могилянской коллегии – Симеон Полоцкий, Епифаний Славинецкий, Дамаскин Птицкий, Арсений Сатановский. Лазарь Баранович как реальный представитель западного образования и модернизированной к тому времени украинской церкви также принимал в этом участие. Осенью 1666 г. он прибывает в Москву для участия в церковном соборе. Владыка привозит с собой несколько экземпляров только что изданного сборника проповедей «Меч духовный», который дарит царю и некоторым из его окружения.
Конфликт между светской и духовной властью за главенствующую позицию в обществе еще в латинском средневековье оформился в теорию «двух мечей». В России он обостряется во второй половине XVII в. между царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном. Посвятив свою книгу «Меч духовный» царю, Лазарь символически отдает ему всю полноту власти.
Печатные издания посвящались известным людям, с одной стороны, и читателям – с другой. Но обращение к одному, по Ю. Лотману, опубликованное в книге или журнале, меняет аудиторию, адресуясь уже любому читателю3.
Лазарь Баранович выстроил и концепцию власти, и художественный мир своей книги с помощью западных текстопорождающих моделей. Первое предисловие последовательно моделирует образ идеального царя, имея в виду Алексея Михайловича. Он – эксплицированный адресат. В предисловии нет прямого противопоставления царя и патриарха. Но если посмотреть на основные аргументы текста, то станет понятно, что это «перевернутые доводы» царского оппонента. Патриарх Никон посвятил проблеме двух властей книгу под названием «Возражения или разорения смиренного Никона»4. Основными тезисами автора были: священство выше царства, священство – от самого Бога, царь ограбил церковь.
Как раз патриарх Никон и стал одним из первых читателей «Меча духовного», экземпляр которого он получил сразу после приезда Барановича в Москву. Патриархом был написан критический ответ – «Свиток». В нем Никон обвинил автора в латинской ереси, перечислил мелкие недочеты в книге, дал замечания по поводу ее внешнего вида, выразил недовольство за частое цитирование католических писателей.
У опального патриарха было много симпатизирующих. А. Карташев утверждает, что иерархия русской церкви разделяла позицию Никона, хотя в открытую ее и не отстаивала5.
В связи с этим совсем не случайно «Меч духовный» был одобрен московским собором и за счет правительства разослан в монастыри и епархии в качестве средства переубеждения монахов и священников. Из книг киевской печати он был самым распространенным изданием в России второй половины XVII в., перегнав даже Киево-Печерский патерик. С. Луппов нашел экземпляр «Меча» в приходской библиотеке города Устюга6. В. Перетц обнаружил этот сборник проповедей в описях книг северных монастырей России (Успенско-Андреевская и Корнилова пустыни (2 экз.), Николо-Коряжемский и Глуницкий монастыри, а также Вологодский архиерейский дом7). Ученый утверждает, что книги из монастырских библиотек использовались для духовного чтения как в самих обителях, так и в миру (за определенную плату)8. В конце XVII в. в состав патриаршей библиотеки входило 38 экземпляров «Меча». Эти факты свидетельствуют о том, что в то время сеть духовных библиотек России была пресыщена сборниками проповедей Лазаря Барановича.
Симеон Полоцкий (духовник царя, учитель царских детей, профессиональный писатель) написал четыре эпиграммы, посвященные «Мечу». Автор дал им описательное обобщающее название «На книгу, именуемую “Меч духовный”, епиграмма». Симеон сгруппировал их и позже ввел в рукописное собрание «Рифмологион». Эти стихи можно считать читательской интерпретацией книги черниговского епископа.
Еще Цицерон утверждал, что «между поэтом и оратором много общего; правда, поэт несколько ограничен в ритме и свободнее в использовании слов, однако много других способов украшения речи у них подобны…»9.
Из трактатов по риторике и поэтике можно определить, что эпиграмму и ораторскую прозу объединяют:
1) способ изобретения и разработки темы. Например, по Митрофану Довгалевскому, распространение темы чаще всего происходит в соответствии с такими пунктами: кто, где, с помощью чего, почему, каким способом, когда. А также текст строится на материалах, взятых из родословной, истории, сказки, присказки, обычая, происхождения имени или аллегории, из причины, следствия, на основе сентенций и подобия и др.10;
2) acumen или теория остроумия11;
3) введение в текст похвалы или порицания. Эпиграмма может содержать в себе оправдание или осуждение как образцы судебного красноречия;
4) мораль, дидактический вывод12.
В соответствии с набором формальных признаков и функций, которые она выполняет, эпиграмма была близка к барочной проповеди, соответственно, язык эпиграммы был идеальным для описания проповеди. Этим и воспользовался Симеон Полоцкий.
Как правило, эпиграмма короткая. Митрофан Довгалевский допускает, что она не должна превышать 10 стихов13. Эпиграммы Симеона Полоцкого состоят из 52, 10, 8 и 8 строк, т.е. 26, 5, 4 и 4 двустиший соответственно.
Эти четыре эпиграммы усиленно эмблематичны и литературны. По Митрофану Довгалевскому, эпиграмма – это inscriptio или superscripcio, т.е. надпись, которая ставилась на разных культурных сооружениях. Текст Симеона Полоцкого – это надпись на книгу. Автор использует в качестве источника стихов «Предословіє ко читателю», которое в свою очередь служит в качестве прозаической подписи к форте «Меча духовного». Лазарь Баранович в предисловии объясняет гравюру, раскрывает смысл названия книги и функции составляющих ее частей.
Главным средством связности текста предисловия выступает образ меча, который раскрывается барочным способом – цитатами из разных библейских книг, содержащими ключевой образ, т.е. сильными аргументами из наиболее авторитетного христианского источника. Но если у Барановича это цитаты с атрибуцией (на маргинесе), то у Симеона Полоцкого – это реминисценции библейских текстов. Таким образом, Симеон Полоцкий изобретает материал не самостоятельно. Референция для него, с одной стороны, – сборник Барановича, а с другой – его автор. Соответственно, у него два предмета изображения – вещь и особа, которые условно делят эпиграмму на две части (1–24 и 21–52 строки). Прежде всего, эпиграмма [1] акцентирует на духовной функции меча:
Нуждно есть небо хотяй восхитити
имат мечем сим рать в мире творити
духовным, дуси будут посечени,
а благим злии будут поражени 14.
Кроме того, автор стихов (не без помощи евангельских цитат из предисловия Барановича) описывает ключевой образ:
Остр обоюду и есть действен зело
Души и плоти враги сечет смело 15.
Симеон Полоцкий называет источники книги Барановича и происхождения проповеди вообще:
Драг злата паче от Божия слова
Нова Завета бысть его основа.
Не из земна кружца он сооружися,
Оубо тли празден, ратуй, не сумнися,
Вещество его с небес принесенно
Устнами Христа: тем же есть спасенно 16.
Перефразировав слова Иисуса из Евангелия от Луки [Лк. 22], Симеон Полоцкий содействует распространению книги, акцентируя на ее роли в духовном усовершенствовании человека:
И небо может оным ся набыти,
оубо продавши ризу, меч купити
сей подобает, им же и одежду
стяжает небесну имяяй надежду 17.
Вторая часть эпиграммы – панегирик Лазарю Барановичу. Симеон Полоцкий амплифицирует остроумные фразы относительно автора сборника, использовав имя и материал из евангельского сюжета о Лазаре четырехдневном, а также из дополнительных средств, а именно – должности (за функцией) и этимологии фамилии:
Пастырю с овцы зело есть прилично –
Барановичю с агньцом есть обычно 18.
Заканчивается эпиграмма пожеланиями проповеднику:
Ты – живот, Христе, и здравия датель,
Жив, здрав да будет наш мечекователь 19.
Вторая эпиграмма построена на основе образного топоса «жизнь-борьба», взятого из первой строки предисловия Барановича: «Сих брани полных времен, ничтоже тако полезно, яко же меч»20. Текст сформирован на основе семантико-когнитивной структуры. Его связующим компонентом является принадлежность образов эпиграммы к одному тематическому кругу. Микросценарий «духовной брани» состоит из таких частей: «брань – борец – меч – помощь – враги – победа – подвиг».
Общеизвестно, что интерпретация должна быть основана на структуре текста21. Исследователи рассматривают ее как схему связности его ключевых знаков. Исследователь В. Лукин отмечает, что ее-то и можно использовать как «грамматику интерпретации»22. Примечательно, что в эпиграммах ключевое слово, взятое из заглавия (меч), повторяется в четырех стихах 16 раз (включая и неологизмы «мечекователь» и «мечатворец»). Наиболее выразительно оно выглядит в контексте других повторов, например (схема: 1/ 1, 2, 1/ 1, 2/ 3, 3):
Житие наше брань ся именует –
всяк борец меча на брань потребует:
На брань духовну се есть меч духовный
словесной твари, не железный, словный 23.
В третьей эпиграмме автор, использовав евангельское уподобление «Христос-камень» и усилив его глагольными противопоставлениями, выстроил свой текст:
Коса о камень может ся тупити,
но меч каменем может ся острити.
Камень есть Христос, им же изострися
сей меч духовный, а не притупися 24.
Четвертая эпиграмма – реализация определенной герменевтической программы, заложенной в тексте-доноре. Она функционально тождественна предисловию и состоит из пожеланий читателю:
С духами злобы хотяй ратовати
меча духовна должен есть искати:
Не ищи, борче, се ищет он тебе,
готов он к действу, ты готови себе.
Чти, ач ти токмо победа готова,
венец ти будет от божия слова.
Его же моли, да и мечатворцу
венец зготовит яко тебе, борцу 25.
За источником, образными составляющими, двумя основными предметами изображения эти четыре эпиграммы – фактически один текст. Сравнив их с претекстом, можно сказать, что это стихотворный перифраз прозаического предисловия Черниговского епископа. Но если у Барановича – это текст о тексте, то эпиграммы – текст о предисловии, текст, который описывает литературный факт и дает ему оценку, прославляет его автора, ориентирует читателя. При этом он построен на типологически подобных основах по сравнению с претекстом, прежде всего принципе изотопии, что проявляется в использовании повторов, парафраза, синонимов, антонимов. Но эти средства, в соответствии с лаконичными законами другого жанра, имеют особую остроту и выразительность. Можно сказать, что интерпретация Симеона Полоцкого была идеальной с точки зрения понимания и воспроизведения претекста. Лазарь Баранович сам дал ей оценку в письме к Симеону Полоцкому в мае 1669 г.: «…сколь благосклонно принял ты «Меч», столь снисходительно да преклонится ухо к «Трубам»26.
Оригинальную интерпретацию получил текст Барановича у авторов из старообрядческой среды. Их герменевтическая рефлексия была направлена на образ царя из предисловия. Уже после смерти Алексея Михайловича анонимный автор «Возвещения от сына духовного к отцу духовному» понимает тезис о бессмертии царя из предисловия в прямом смысле. В старообрядческом тексте «Меч духовный» Барановича получает новое неожиданное название – «Сабля никонианская»27. Для старообрядцев и царь, и патриарх были грекофилами и реформаторами. И совсем не важным, с их точки зрения, было противостояние между ними, а тем более симпатии Барановича.
Таким образом, книга Лазаря Барановича моментально была вовлечена в политическую, духовную и художественную жизнь российского общества. Она нашла читателей в разных духовных сферах и даже вызвала определенные полемические вспышки. Показательно, что художественное восприятие, объективированное в читательских высказываниях, было шире авторской программы воздействия. Реакция читателей показала разные мнения из духовной среды относительно открытости к изменениям русского общества второй половины XVII в.
ПРИНЦИП IMITATIO CHRISTI В «РЕЧИ О ЧИСТОТЕ РОССИЙСКОГО ЯЗЫКА» В.К. ТРЕДИАКОВСКОГО
Ю.В. Сложеникина
Социальным принято считать творчество, затрагивающее проблему взаимоотношения власти, общества и писателя. Тредиаковский стал первым поэтом, попытавшимся утвердить социальный статус писателя Нового времени. Грандиозность целеполагания заставила Тредиаковского в течение жизни три раза менять свою социальную роль и тип писательского поведения. Начальный период его творческой деятельности прошел под знаком французской модели, рассчитанной на эпатаж, авантюру, отрицание сковывающих рамок условности, ориентацию на живые природные чувства. Художественным артефактом, вписанным во французскую модель писательского поведения, стала «Езда в остров любви» (1730). В «Езде…» Тредиаковский впервые заявил о себе как о стороннике «новых» в споре с «древними». С юношеским задором двадцатисемилетний переводчик «Езды…» примерил на себя роль реформатора – борца с патриархальными устоями традиционалистов. Однако, несмотря на успех у читающей молодежи, верхушка светского общества и церковнослужители были удивлены столь «новаторским» произведением молодого автора и не приняли его.
В 1732 г. Тредиаковский примерил на себя роль придворного поэта. Основной формой прославления государя и новой Империи в это время были оды. Одическую моду при дворе в это время задавали немецкие поэты. Поиск иной социальной роли приводит Тредиаковского к созданию по немецкой модели «Панегирика, или Слова похвального всемилостивейшей государыне императрице самодержице всероссийской Анне Иоанновне» (1732).
В 1733 г., после утверждения в должности секретаря Академии, Тредиаковский выдвинул идею организации Российского собрания по образцу Французской Академии. Целью этого собрания должно было бы стать поощрение и усовершенствование русского языка. 14 марта 1735 г. ученый выступает с программной «Речью о чистоте Российскаго Языка». Спустя 17 лет торжественное слово было включено Тредиаковским в двухтомное «Собрание сочинений» 1752 г. под названием «Речь, которую в Санкт-Петербургской Императорской Академии Наук к членам бывшаго Российскаго собрания во время перваго их заседания Марта 14 дня, 1735 года о чистоте Российскаго Языка говорил В. Т.» (Далее «Речь…»). Очевидно, что Тредиаковский в зрелом возрасте не отказался от своих ранних посылов, а авторская установка, проблемы и задачи, обозначенные в работе, не потеряли актуальности и в 50-е годы XVIII в.
1745 г. – новый период социального и литературного творчества Тредиаковского. Поэт избирает путь наставника, просветителя народа. Теперь, по Тредиаковскому, поэт – это не кто иной, как помощник монарха в деле возвращения государства к золотому веку человеческой истории.
Петровские преобразования поставили перед интеллигенцией середины XVIII в. задачу языкового строительства в новой культурной ситуации секуляризованного государства. И Тредиаковский уже в 1735 г. остро ощущал несоответствие языковой теории и практики состоянию общественной жизни: «Великая потребность в сем деле!.. коль ни полезно есть Российскому народу возможное дополнение Языка, чистота, красота, и желаемое, потом, его совершенство…»1 По Тредиаковскому, усовершенствованный, благодаря радению Петра I, язык по прошествии лет, ко времени правления императрицы Анны, нуждается в новом «попечении»: «Посмотрите, от ПЕТРА ВЕЛИКАГО лет, обратившись на многии прошедши годы; то размысливши увидите ясно, что совершеннейший стал в ПЕТРОВЫ лета язык, нежели в бывшия прежде… нимало не сомневаюсь, чтоб, достославныя АННЫ в лета, к совершенной не пришел своей высоте и красоте»2.
В «Речи…» Тредиаковский определил три наиглавнейшие задачи в деле языкового строительства: 1. Написание Грамматики, доброй и исправной, основанной на употреблении мудрых; 2. Создание Лексикона, полного и довольного; 3. Сочинение Риторики и Стихотворной науки3.
Тредиаковский сетует, что начинателей сего славного дела в России очень мало, и твердо надеется, «когда малый, уский, и мелкий наш поток, наполнився посторонними струями, возрастет в превеликую, пространную, и глубокую реку, то есть когда число наше искусными людьми умножится, и прибавится…»4.
Исследователи однозначно утверждают, что в 30–40 годы XVIII в. Тредиаковский ориентировался только на западноевропейскую традицию. Крайняя точка зрения обозначена Л.Е. Татариновой5. Действительно, оказавшись во Франции, он был буквально очарован культурой светского салона. Ю.М. Лотман предполагал, что идея перенести в Россию академическую и салонную французскую культуру захватила мысли молодого новатора. Во французской прециозной среде первой четверти XVIII в. выработался свой язык общения. Создателями этого языка стали избранные персоны: поэты, писатели, обладающие ученостью и стремлением к образованию. Салонная культура была тесно связана с гуманистической традицией Ренессанса. Противопоставляя себя царствующему двору, она утверждала в абсолютистском государстве идею внесословного равенства6. Для Тредиаковского проблема сословного неравенства всю жизнь оставалась источником страданий и унижений. Известно, что сам он происходил из семьи поповичей. Не имея ни материального достатка, ни знатных покровителей, он мог надеяться только на себя и попытаться воспользоваться открывшимися возможностями реформы Петра I в построении внесословного государства. Тредиаковский не мог принадлежать к высшему свету по праву рода, но, может быть, европейское образование, ученость и писательство могли бы уравнять его со знатью?! В «Речи…» 1735 г., осчастливленный должностью в Академии, он обращается к членам Российского собрания с риторическим вопросом: «…не знаю, что должен я о себе помышлять. Возможноль сему статься, и правдаль то, что и я удостоен действительно вашего содружества, котораго токмо такой быть достоин может, кто многаго есть разума, довольныя науки, твердаго и зрелаго рассуждения, словом, подобный вам»7.
В программной «Речи…» Тредиаковский подчеркивает особое значение западноевропейского опыта для становления отечественной риторики: «Помогут нам в ней премногии творцы Греческии и Римскии; а наипаче хитрый и слаткий в слове Марк-Туллий-Цицерон. Помогут Францусскии Балзаки, Костарды, Питрю, и прочии бесчисленныи. Помогут многии преславныи писатели Немецкии…»8. Неумолимо, с точки зрения Тредиаковского, значение переводов.
Европейский опыт служит для теоретика языка примером для подражания: «…первыиль мы в Европе, которым сие не токмо трудно, но почитай и весьма неприступно быть кажется?.. Например: не нетрудно было, в самом начале, Флорентийской Академии старание приложить к чистоте своего языка; приложила. Не нестрашно было, мню, предприять также и Францусской Академии, чтоб совершеннейшим учинить свойство там употребляемаго диалекта; предприяла. Невозможно, чаю, сперва казалось Лейпцигскому содружеству подражать толь благоуспешно вышереченным оным Академиям, коль те начавши окончали щасливо; подражает, и подражало благополучно»9.
Эксплицитно в «Речи…» 1735 г. о предшествующем отечественном книжном опыте не упоминается. Точкой отсчета русского языка Тредиаковский называет Петровскую эпоху. Более того, всячески подчеркивается первенство членов Российского собрания и самого автора в деле создания русского языка. Обратим внимание на разнообразие форм от глагола «начинать»: «Знаю, что трудно будет начало; но своя есть честь и начатию… На что нам завидовать щастию и славе других в окончании, когда довольно всего того с нас будет в начатии, и в продолжении. Но хотя нас и устрашают трудности; однако начнем, а по начатии нечто из того произойдет, по крайней мере, побуждение других к подобному делу: не начинаяж ничего, ничего и не будет»10.
Однако имплицитно влияние церковно-славянской книжной традиции заметно в композиции и языковых особенностях «Речи…». Выше приведенная фраза отсылает нас к Прологу Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без Него ничто не начало быть» [Ин. 1. 1–3].
Начало «Речи…» вполне соответствует житийной топике, когда древнерусский автор, приступая к богоугодному делу написания жития святого, начинал с прославления Бога и самоуничижения. Топосы прославления в «Речи…» Тредиаковского представлены в трансформированном виде. Они обращены к иному адресату, тогдашнему Президенту Императорской Академии господину Иоанну Албрехту барону фон-Корфу. Тредиаковский называет его главным Командиром, остроумным и мудрым Мужем, особой «в мудрых мудрой, в ученых ученой, в достойных достойной…»11. Выстраивая антитезу, собственную персону автор характеризует как имеющую многие недостатки и неспособности, собственное риторическое слово как неискусное, должность в Академии как непосильную, не соответствующую тупости его ума.
Тредиаковский указывает на цель своих филологических практик: «…ради сего станем трудиться, чтобы и по смерти не умереть»12. Он совершенно определенно выстраивает схему иерархии авторитета и авторства: Бог – императрица Анна – поэт: «…возблагодарим токмо всеблагому БОГУ, что милостиво свое подобие, ИМПЕРАТРИЦУ АННУ, даровал нам здесь, да здраво, благополучно, и долговременно та царствует над нами»13. Новый язык нужен писателю, чтобы прославлять правление императрицы: «Сего точно ради ныне должность сия вам поручается, дабы, по скольку возможно, в совершенство приводить Язык наш, и чрез тоб иметь хотя малое средствие к прославлению дел и добродетелей Государыни нашея»14. В лице императрицы для Тредиаковского совместились добродетели мудрого, храброго, щедрого, правосудного, любезного, рассудительного, великодушного монарха и божественная милость: «Глух есть, кто не слышит громогласных проповедей по всей России, от всех чинов, на всяком месте, о крайней Самодержицы нашея милости; слеп есть, кто не видит повсюду текущаго, неудопонятнаго потомкам, щедрот ея источника; окаменен есть, кто не чувствует сердцем матерняго ея ко всем милосердия…»15. Текст аллюзивно отсылает нас к библейскому первоисточнику: «…потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смотреть будете – и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем…» [Матф. 13. 13–15]. Какова же, по Тредиаковскому, роль поэта? Поэт сохраняет истину для будущих родов: «…достовернейшая сия истинна такова вменится, каковы преукрашенные слогом басни древних и новых Пиитов нам быть кажутся»16.
Когда Тредиаковский 14 марта 1735 г. выступал с речью перед членами Академии, ему шел тридцать третий год (поэт родился 22 февраля по старому стилю 1703 г.). Возложив на себя многотрудные обязанности на поприще совершенствования российского языка, поэт встал на путь imitatio Christi. Тредиаковский дает публичный обет смирения и послушания: «…но послушанием, но почтением к Его Превосходительству, с вами сравниться всячески постараюсь. Не будет во мне, да и не надлежит, никакова велениям его сопротивления, не будет отнюд отречения, не будет и нималаго преслушания: ко всему, чего моя должность взыскивать с меня ни будет, увидит он меня готова; ко всему, да и всегда, прилежна; ко всему радетельна, и толь, коль самая возможность до того меня допустит…»17. Он не уверен, примет его академическая общественность или закидает камнями: «…Его Превосходительство несколько меня достойным изобрящет вашего собщества, и вы не будете сожалеть, что искусныя ваши наставления, в рассуждении чистоты нашего Языка, в прибыток мой, к пользе общей, купно с вами трудясь, употреблю: что и дабудет благоуспешно, желаю»18.
Тредиаковский избирает путь апостольского служения: не для себя, но для потомков. Он неоднократно подчеркивает, что не достоин нести «толь тяжкое бремя», акцентирует внимание на низости своего положения. Топика поведения задана словами апостола Павла: «Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как Аарон» [Евр. 5. 1–4].
Тредиаковский обращается к библейским образам пчелы и цветка; как риторическая фигура наращения в этом же контексте появляется образ соболя: «…для себяль единыя Пчела слаткий мед собирает, а и не для нас? Для себяль единаго Соболь драгоценную носит одежду, а и не для нас? Не для себя и прекрасныи Цветы благовонны, но для нас»19. Мотив пчелы и цветка имеет ветхозаветное происхождение: «Мала пчела между летающими, но плод ее – лучший из сластей» [Сир. 11. 3; см. также Притчи Соломона. 6. 6–11]. 24 глава «Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова» прославляет Премудрость через семантику растительных образов: «Я [премудрость] возвысилась, как кедр на Ливане и как кипарис на горах Ермонских; я возвысилась, как пальма в Енгадди и как розовые кусты в Иерихоне; я, как красивая маслина в долине и как платан, возвысилась. Как корица и аспалаф, я издала ароматный запах и, как отличная смирна, распространила благоухание, как халвани, оникс и стакти и как благоухание ладана в скинии. Я распростерла свои ветви, как теревинф, и ветви мои – ветви славы и благодати. Я – как виноградная лоза, произращающая благодать, и цветы мои – плод славы и богатства. Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими; ибо воспоминание обо мне слаще меда, и обладание мною приятнее медового сота» [Сир. 24. 14–22]. Образ соболя, символизирующий пышность одежд, отсылает к богоизбранному Аарону-толмачу – посреднику между пророком Моисеем и людьми, первому получившему сан священника и право совершать культовые действия: «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия» [Исх. 28.2]. Особое благолепие одежд первосвященника становится метафорой красоты его речи.
Конец речи совмещает imitatio apostoli и imitatio angeli ‐ Тредиаковский снова показывает смирение и непротивление: «…сию Речь, на сих листках написанную, в ваше отдаю рассмотрение, прося, да соблаговолите в ней неправильное исправить, недостаточное наполнить, непринадлежащее надлежащим украсить, лишнее вон вынять; и сим образом из неслаткия, зделать ея хотя несколько пошлою, и приятною»20.
Тредиаковский не боялся трудностей, занимая должность в Академии с обязанностями вычищать русский язык: «…и трудность в нашей должности не толь есть трудна, чтоб побеждена быть не возмогла. Одно тщание, одна ревность, одна неусыпность от нас требуется. Можнож дать и способ, чрез который тщание, ревность, и неусыпность непреминуемо иметь мы будем. Верьте мне, когда о труде памятовать не станем; когда хвалы, славы, и общия пользы желать станем; когда не для того будем жить, чтоб не трудиться, но ради сего станем трудиться, дабы и по смерти не умереть: тогда нечувствительно привыкнем и пристрастимся к тщанию, ревности, и неусыпности»21. По сути дела, Тредиаковский в данном отрывке обращается к жанру светской проповеди, тематическим ключом для реконструкции которой являются библейские аллюзии. Так, призыв к ревностному служению отсылает нас к «Посланиям апостола Павла»: «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дела ваши и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования» [Евр. 6. 10–12]. Призыв к тщанию может быть интерпретирован через «Первую книгу Ездры»: «Все, что повелено Богом небесным, должно делаться со тщанием для дома Бога небесного» [1 Езд. 7. 23]. Возлагая на себя обязанности ревнителя русского языка, Тредиаковский приравнивает свою деятельность к апостольской. Избрав путь ученого и писателя – просветителя народов – Тредиаковский заручается авторитетом Священного Писания и Предания, исторического прошлого России, ее культуры, искусства, в том числе и языка, конечно, церковно-славянского.







