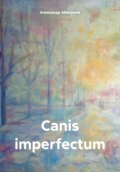Александр Николаевич Абакумов
Папская область
В доме Бернардоне на улице Синих Птах была какая-то праздничная суета. Так бывало всегда, когда у отца было хорошее настроение, хотя не могли припомнить домашние, когда это было в последний раз. Всё вокруг радовало Пьетро – и красота дочерей, и Джованна, словно увиденная им впервые, и главное, сын Франческо, который сегодня, прямо сейчас, становится продолжателем его дела, его настоящей опорой. Пришло время по-настоящему гордиться сыном (и дело-то несложное – Франческо непременно выполнит поручение, доставит отцу все сорок монет). Счастье переполняло его сердце как вдруг какой-то шум во дворике отвлёк его от приятных мыслей. Выглянув в окно, увидел он, как Антонио и Филиппо, переговариваются через дверь с кем-то на улице, горячась и размахивая руками. Пришлось Пьетро спуститься и подойти к своим беспокойным слугам.
– Хозяин, никогда такого не было, за дверями стоят какие-то оборванцы и хотят с Вами говорить! – приступили к нему Филиппо и Антонио.
– Что-нибудь требуют?
– В том-то и дело, что ничего не просят, кроме как Вас видеть. Ведут себя смирно, женщины даже смеются, а ведь Вы знаете, что наши женщины, если уж такая им нужда, снесут кого угодно…
– Открывайте… Я говорю, открывайте! – сегодня Пьетро верил только в хорошее и, замешкавшийся было, Филиппо, скрепя сердце, приоткрыл дверь. Теперь можно было рассмотреть столпившихся на улице, все они были и грязны, и оборваны донельзя. Никогда Пьетро не видел столько нищих в одном месте, да ещё на пороге собственного дома, и это ему очень не понравилось. Радость, так согревавшая его весь день, куда-то пропала… Он переводил взгляд с одного измождённого лица на другое, но, к удивлению, не находил в них никакой агрессии. Наоборот, что-то похожее на улыбку жило на лицах этих людей и множество ответных чувств проснулось в душе Бернардоне, от непонимания и удивления до уверенности, что всё закончится миром. Он не вышел на улицу, остался стоять в дверях, из-за его спины выглядывали растерянные слуги. В толпе дружно о чём-то говорили, но в общем их хоре понять ничего было нельзя. Бернардоне, чувствуя себя всё более уверенно на пороге своего дома, поднял руку и шум постепенно стих. Пришедшие постепенно приближались и это не выглядело угрожающе, что-то другое привело их сюда. Пьетро жестом велел им остановиться и не подступать ближе, и случилось именно так, как он потребовал. Выбрав среди толпы одного, на вид наиболее подходящего для беседы, он кивнул ему и коротко предложил:
– Говори, я тебя слушаю!
– Дорогой синьор! – начал человек, приложив руку к сердцу (вокруг стало тихо и Бернардоне такое начало удивило) – все мы просим прощения, что потревожили Вас, но мы не могли не появиться здесь этим вечером. Ведь именно благодаря Вам получили мы и пищу, и защиту, и благословение Господне…
– Ты ошибаешься, сегодня я не покидал своего дома, и даже ни с кем из посторонних не разговаривал. Повторяю, все вы заблуждаетесь, если и облагодетельствовал вас кто-то, то это точно не я, – Пьетро совершенно успокоился, стало ясно, что всё это просто недоразумение – идите с Богом.
Вокруг зашумели и его собеседник продолжил:
– Синьор, это правда! Сегодня в полдень Ваш сын Джованни накормил и одарил серебряными деньгами всех несчастных на площади перед храмом. Он ел с нами хлеб, спрашивал о наших нуждах и назвал своё благородное имя. И нет здесь никакой ошибки, все мы пришли благодарить отца, у которого такой прекрасный сын…
Много чего ещё говорил, благодарно прижимая руки к груди, этот бедный и невзрачный человек. Люди за его спиной вторили ему, приветствуя счастливого отца замечательного сына, но не мог уже воспринимать их слова Бернардоне, молча стоял, устремив взгляд куда-то вдаль и цепляясь за дверной косяк. Видя, что хозяину нехорошо, Филиппо и Антонио подхватили его под руки, оттащили во дворик и заперли дверь. Оставалось только ждать возвращения домой Франческо, но было уже понятно, что возвращение это будет значимым, непростым и печальным. Так и произошло. Джованна, прижимая руки к груди, со стыдом наблюдала, как мелко и недостойно повёл себя муж по возвращении домой Франческо. Эти упрёки, отвратительное кривлянье, какая-то суета… Наконец, последовал хлёсткий удар, за ним – страшное невозвратимое проклятие. О, лучше бы ей на свет не родиться чтобы не видеть этого… Загремели замки, захлопнулась за сыном тяжёлая подвальная дверь, и побежал её Пьетро куда-то в город…
После трудного разговора с падре Паоло (понял ли тот что-нибудь из его путанных слов, слёз и восклицаний?), захотелось Пьетро побыть одному. Уединившись, долго сидел он на постели, не услышав даже как вошла в комнату Джованна. Незамеченное утром белое облачко нависло над их домом грозовой тучей и не могло это исчезнуть так просто, для этого требовалось и время, и сердечные усилия, и смелость. Джованна видела, что озноб бьёт её мужа, сама же она хмурилась, но держалась. Франческо был взаперти, решения предстояло принимать Пьетро, а что же она? Наконец, ей показалось, что нужные слова нашлись:
– Пьетро, я здесь, рядом…(она обняла мужа, хорошо зная, как благотворно действуют на него её прикосновения, и вот уже взгляд Бернардоне перестал блуждать), – если хочешь, я побуду с тобой…
Им и раньше приходилось подолгу молчать, ничего страшного они не видели в долгом молчании. Порой даже так получалось, что это безмолвие приносило пользу, но, как видно, не сегодня ожидалось такое чудо. Бернардоне поднял глаза на жену:
– Нужно отнести ему что-нибудь поесть… Да и ночи уже холодные – тогда и плащ мой дорожный тоже ему…
Джованна как будто ожидала этих слов. Она облегчённо перевела дыхание и тихо ответила, медленно подбирая слова, ибо ошибиться было нельзя:
– Ты сам знаешь, что не это тебе нужно делать. Пойдём к нему, ведь он нас ждёт! Открой эту страшную дверь, обними его и он нас простит! О, только бы он нас простил!
Пьетро, чуть было не свернувший на ведшую в тупик дорожку, заметно ожил. Джованна помогла ему подняться на ноги, взяла под руку – «Как он вдруг ослабел! Но ничего, главное то, что мы правильно поступаем… А силы вернутся» – подумалось ей. Пьетро в ответ тихо шептал жене слова благодарности, которые почему-то очень напоминали молитву. Удивительное, лёгкое чувство, какое бывает когда отступает болезнь, посетило его и поселилось в сердце. В чёрных тучах образовалась просинь и оттуда смотрели на это с пониманием и одобрением. Ещё бы – Джованна даже тихонько заплакала – едва Пьетро отпер проклятую дверь, едва встретились взглядом отец и сын, как где-то, только они это слышали, негромко ударил колокол. Широко открыв глаза, Бернардоне всматривался в эту тьму, словно в могилу, ужасаясь, как мог он бросить туда своё дитя, а из подвала, как из темноты материнской утробы, щурясь от яркого света, смотрел, мучительно рождаясь, ищущий свой путь, Франческо. Отец и сын, продрогшие и голодные, они, наконец, оказались рядом, и, как обычно, прижимал Франческо голову к груди отца. И опять посетило Пьетро прекрасное чувство, когда ощутил он себя на мгновение кем-то очень сильным, принимающим к себе потерявшегося и найденного детёныша… Так счастливо длилась и длилась короткая минута.
И не так уж много утекло воды в окрестных речках с той поры, как Пьетро Бернардоне обрёл эту последнюю надежду на спокойную жизнь в семейном кругу. Но… Оказывается, недостаточно было показывать на людях пример благочестия; преклонение колен и раздача милостыни после церковной службы, строгий пост и обеты, которые он принёс, не дали ему желанного покоя. Франческо, любимый сын, упрямо шёл по жизни своим путём, и почувствовал себя Пьетро каким-то одноруким. Сына уже не было рядом и фантомная эта боль не покидала измученное тело отца. Не замечать её было невозможно, как нельзя было привыкнуть к странным взглядам соседей и удивлённому их шёпоту за спиной… Однорукость эта сказывалась и на делах, и на ночных объятиях, ибо злился он и был полон обиды. Дом его опустел, угрюмо ходил Пьетро по двору, не замечая разбегающихся и прячущихся слуг, часто выходил на улицу и если не встречал там своего Джованни, то тревожился и молился чтобы его увидеть. Когда же им доводилось встретиться и видел он это новое поприще сына, непонятное и полное, как ему представлялось, страданий, о-о…! – тогда наступало такое отчаяние, что ещё долго потом не мог он прийти в себя, тем более, что события последних месяцев отобрали у него слишком много сил. Никто не знал о состоянии его дел и было страшно видеть в нём уже хорошо заметную неопрятность, его пыльную, пришедшую в негодность, когда-то богатую одежду. Редко когда подавал он негромкий голос, порой заикаясь и путая слова. Изменился у него даже почерк, буквы сплетались в непонятное кружево, разобрать которое было весьма мудрено. Так и жил он, как-то внезапно состарившись, погружённый в свои надежды и страхи. Посмотрели бы на него друзья молодости, да что там далёкие друзья – даже сосед Альберти не всегда его узнавал, встречая на площади в воскресный день. Этот всегда мрачный, согбенный старик, одним своим видом пугавший детей, вполне мог стать печальным символом города, если бы не иной символ, всегда радостный, быстрый и светлый, не заслонял его собой, проходя мимо родного дома по улице Синих Птах.
Последней попыткой что-то поправить, вернуть если не сына, то хотя бы деньги, истраченные Франческо на помощь то страдальцам, то погорельцам, был суд перед лицом уважаемого в городе епископа, куда, не слушая увещеваний Джованны, повлёк Пьетро Бернардоне сына. Там он и получил удар, помочь оправиться от которого могли, разве что, высшие силы. А произошло вот что. По просьбе епископа, этого достойного главы местной церкви, стремящегося закончить дело миром, все деньги до последней монеты были возвращены сыном злосчастному отцу, а потом увидел, пребывающий в гневе, Пьетро, как сбросил с себя его Франческо всю одежду, сложил её у ног священника и спросил у собравшегося народа, указывая на отца, как будто видел его впервые:
– Кто это?
Следом прозвучали слова ещё более страшные, неслыханные на улицах Ассизи:
– Слушайте, знавшие меня и внимайте! Вот стоит передо мной человек, которого доныне называл я отцом. Вы все свидетели, что я вернул ему всё, что от него получил – и деньги, в которых он теперь находит что-то великое, и богатые одежды, как символ его прежних забот. С сегодняшнего дня буду я говорить «Отче мой, сущий на небесах!», а никак не « Отче мой, Пьетро Бернардоне»!…
…Одинокий свой путь домой проделал несчастный старик как во сне. Знал он конечно, что и ближние, и дальние осудят его за это позорное судилище, что никогда уже его жизнь не будет прежней. Знал, что разлетятся по чужим домам его дочери, пытаясь свить там свои гнёзда, слуги разбредутся в поисках лучшей доли и только печальный взгляд Джованны будет ему и поддержкой и укором. Но вот, едва коснувшись дверей своего дома, отдёрнул Бернардоне руку, словно получил ожог. Что-то произошло в душе у него, какое-то озарение и поспешил он прочь из города, за каменные его стены в весенние зеленеющие луга. Благодарная память безошибочно вела его к цели и тем, кто наблюдал за ним с высоты небес, ничего уже не следовало более предпринимать, а оставалось лишь ожидать. Наконец, остановился Пьетро на этом своём пути и открылось ему то самое счастливое поле, где когда-то бродил он во сне с маленьким сыном… Но что это там вдалеке? Вновь видится – идёт ему навстречу златокудрая, вся в голубом, женщина и ясно слышит Пьетро звонкий голосок Франческо. И вырывается ребёнок из рук отца, и бежит, падая и поднимаясь, к этой женщине, прекрасней которой никогда не было, и зовёт её: «Мария! Мария!»