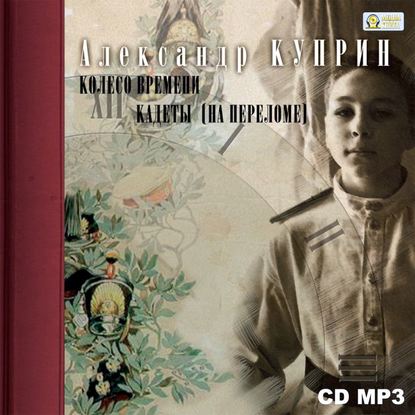Полная версия
Полная версияПолная версия:
Александр Иванович Куприн Листригоны
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Куприн Александр
Листригоны
1. Тишина
В конце октября или в начале ноября Балаклава – этот оригинальнейший уголок пестрой русской империи – начинает жить своеобразной жизнью. Дни еще теплы и по-осеннему ласковы, но по ночам стоят холода, и земля гулко звенит под ногами. Последние курортные гости потянулись в Севастополь со своими узлами, чемоданами, корзинами, баулами, золотушными детьми и декадентскими девицами. Как воспоминание о гостях, остались только виноградные ошкурки, которые, в видах своего драгоценного здоровья, разбросали больные повсюду – на набережной и по узким улицам – в противном изобилии, да еще тот бумажный сор в виде окурков, клочков писем и газет, что всегда остается после дачников.
И сразу в Балаклаве становится просторно, свежо, уютно и по-домашнему деловито, точно в комнатах после отъезда нашумевших, накуривших, насоривших непрошеных гостей. Выползает на улицу исконное, древнегреческое население, до сих пор прятавшееся по каким-то щелям и задним каморкам.
На набережной, поперек ее, во всю ширину, расстилаются сети. На грубых камнях мостовой они кажутся нежными и тонкими, как паутина, а рыбаки ползают по ним на четвереньках, подобно большим черным паукам, сплетающим разорванную воздушную западню. Другие сучат бечевку на белугу и на камбалу и для этого с серьезным, деловитым видом бегают взад и вперед по мостовой с веревкой через плечи, беспрерывно суча перед собой клубок ниток.
Атаманы баркасов оттачивают белужьи крючки – иступившиеся медные крючки, на которые, по рыбачьему поверью, рыба идет гораздо охотнее, чем на современные, английские, стальные. На той стороне залива конопатят, смолят и красят лодки, перевернутые вверх килем.
У каменных колодцев, где беспрерывно тонкой струйкой бежит и лепечет вода, подолгу, часами, судачат о своих маленьких хозяйских делах худые, темнолицые, большеглазые, длинноносые гречанки, так странно и трогательно похожие на изображение богородицы на старинных византийских иконах.
И все это совершается неторопливо, по-домашнему, по-соседски, с вековечной привычной ловкостью и красотой, под нежарким осенним солнцем на берегах синего, веселого залива, под ясным осенним небом, которое спокойно лежит над развалиной покатых плешивых гор, окаймляющих залив.
О дачниках нет и помину. Их точно и не было. Два-три хороших дождя – и смыта с улиц последняя память о них. И все это бестолковое и суетливое лето с духовой музыкой по вечерам, и с пылью от дамских юбок, и с жалким флиртом, и спорами на политические темы – все становится далеким и забытым сном. Весь интерес рыбачьего поселка теперь сосредоточен только на рыбе.
В кофейнях у Ивана Юрьича и у Ивана Адамовича под стук костяшек домино рыбаки собираются в артели; избирается атаман. Разговор идет о паях, о половинках паев, о сетях, о крючках, о наживке, о макрели, о кефали, о лобане, о камсе и султанке, о камбале, белуге и морском петухе. В девять часов весь город погружается в глубокий сон.
Нигде во всей России, – а я порядочно ее изъездил по всем направлениям, – нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве.
Выходишь на балкон – и весь поглощаешься мраком и молчанием. Черное небо, черная вода в заливе, черные горы. Вода так густа, так тяжела и так спокойна, что звезды отражаются в ней, не рябясь и не мигая. Тишина не нарушается ни одним звуком человеческого жилья. Изредка, раз в минуту, едва расслышишь, как хлюпнет маленькая волна о камень набережной. И этот одинокий, мелодичный звук еще больше углубляет, еще больше настораживает тишину. Слышишь, как размеренными толчками шумит кровь у тебя в ушах. Скрипнула лодка на своем канате. И опять тихо. Чувствуешь, как ночь и молчание слились в одном черном объятии.
Гляжу налево, туда, где узкое горло залива исчезает, сузившись между двумя горами.
Там лежит длинная, пологая гора, увенчанная старыми развалинами. Если приглядишься внимательно, то ясно увидишь всю ее, подобную сказочному гигантскому чудовищу, которое, припав грудью к заливу и глубоко всунув в воду свою темную морду с настороженным ухом, жадно пьет и не может напиться.
На том месте, где у чудовища должен приходиться глаз, светится крошечной красной точкой фонарь таможенного кордона. Я знаю этот фонарь, я сотни раз проходил мимо него, прикасался к нему рукой. Но в странной тишине и в глубокой черноте этой осенней ночи я все яснее вижу и спину и морду древнего чудовища, и я чувствую, что его хитрый и злобный маленький раскаленный глаз следит за мною с затаенным чувством ненависти.
В уме моем быстро проносится стих Гомера об узкогорлой черноморской бухте, в которой Одиссей видел кровожадных листригонов.[1] Я думаю также о предприимчивых, гибких, красивых генуэзцах, воздвигавших здесь, на челе горы, свои колоссальные крепостные сооружения.[2] Думаю также о том, как однажды бурной зимней ночью разбилась о грудь старого чудовища целая английская флотилия вместе с гордым щеголеватым кораблем «Black Prince»,[3] который теперь покоится на морском дне, вот здесь, совсем близко около меня, со своими миллионами золотых слитков и сотнями жизней.
Старое чудовище в полусне щурит на меня свой маленький, острый, красный глаз. Оно представляется мне теперь старым-старым, забытым божеством, которое в этой черной тишине грезит своими тысячелетними снами. И чувство странной неловкости овладевает мною.
Раздаются замедленные, ленивые шаги ночного сторожа, и я различаю не только каждый удар его кованых, тяжелых рыбачьих сапогов о камни тротуара, но слышу также, как между двумя шагами он чиркает каблуками. Так ясны эти звуки среди ночной тиши, что мне кажется, будто я иду вместе с ним, хотя до него – я знаю наверное – более целой версты. Но вот он завернул куда-то вбок, в мощеный переулок, или, может быть, присел на скамейку: шаги его смолкли. Тишина. Мрак.
2. Макрель
Идет осень. Вода холодеет. Пока ловится только маленькая рыба в мережки, в эти большие вазы из сетки, которые прямо с лодки сбрасываются на дно. Но вот раздается слух о том, что Юра Паратино оснастил свой баркас и отправил его на место между мысом Айя и Ласпи, туда, где стоит его макрельный завод.
Конечно, Юра Паратино – не германский император, не знаменитый бас, не модный писатель, не исполнительница цыганских романсов, но когда я думаю о том, каким весом и уважением окружено его имя на всем побережье Черного моря, – я с удовольствием и с гордостью вспоминаю его дружбу ко мне.
Юра Паратино вот каков: это невысокий, крепкий, просоленный и просмоленный грек, лет сорока. У него бычачья шея, темный цвет лица, курчавые черные волосы, усы, бритый подбородок квадратной формы, с животным угибом посредине, – подбородок, говорящий о страшной воле и большой жестокости, тонкие, твердые, энергично опускающиеся углами вниз губы. Нет ни одного человека среди рыбаков ловчее, хитрее, сильнее и смелее Юры Паратино. Никто еще не мог перепить Юру, и никто не видал его пьяным. Никто не сравнится с Юрой удачливостью – даже сам знаменитый Федор из Олеиза.
Ни в ком так сильно не развито, как в нем, то специально морское рыбачье равнодушие к несправедливым ударам судьбы, которое так высоко ценится этими солеными людьми.
Когда Юре говорят о том, что буря порвала его снасти или что его баркас, наполненный доверху дорогой рыбой, захлестнуло волной и он пошел ко дну, Юра только заметит вскользь:
– А туда его, к чертовой матери! – и тотчас же точно забудет об этом.
Про Юру рыбаки говорят так:
– Еще макрель только думает из Керчи идти сюда, а уже Юра знает, где поставить завод.
Завод – это сделанная из сети западня в десять сажен длиною и саженей пять в ширину. Подробности мало кому интересны. Достаточно только сказать, что рыба, идущая ночью большой массой вдоль берега, попадает, благодаря наклону сети, в эту западню и выбраться оттуда уже не может без помощи рыбаков, которые поднимают завод из воды и выпрастывают рыбу в свои баркасы. Важно только вовремя заметить тот момент, когда вода на поверхности завода начнет кипеть, как каша в котле. Если упустить этот момент, рыба прорвет сеть и уйдет.
И вот, когда таинственное предчувствие уведомило Юру о рыбьих намерениях, вся Балаклава переживает несколько тревожных, томительно напряженных дней. Дежурные мальчики день и ночь следят с высоты гор за заводами, баркасы держатся наготове. Из Севастополя приехали скупщики рыбы. Местный завод консервов приготовляет сараи для огромных партий.
Однажды ранним утром повсюду – по домам, по кофейным, по улицам разносится, как молния, слух:
– Рыба пошла, рыба идет! Макрель зашла в заводы к Ивану Егоровичу, к Коте, к Христо, к Спиро и к Капитанаки. И уж конечно, к Юре Паратино.
Все артели уходят на своих баркасах в море.
Остальные жители поголовно на берегу: старики, женщины, дети, и оба толстых трактирщика, и седой кофейщик Иван Адамович, и аптекарь, занятой человек, прибежавший впопыхах на минутку, и добродушный фельдшер Евсей Маркович, и оба местных доктора.
Особенно важно то обстоятельство, что первый баркас, пришедший в залив, продает свою добычу по самой дорогой цене, – таким образом для дожидающих на берегу соединяются вместе и интерес, и спорт, и самолюбие, и расчет.
Наконец в том месте, где горло бухты сужается за горами, показывается, круто огибая берег, первая лодка.
– Это Юра.
– Нет, Коля.
– Конечно, это Генали.
У рыбаков есть свой особенный шик. Когда улов особенно богат, надо не войти в залив, а прямо влететь на веслах, и трое гребцов мерно и часто, все как один, напрягая спину и мышцы рук, нагнув сильно шеи, почти запрокидываясь назад, заставляют лодку быстрыми, короткими толчками мчаться по тихой глади залива. Атаман, лицом к нам, гребет стоя; он руководит направлением баркаса.
Конечно, это Юра Паратино!
До самых бортов лодка наполнена белой, серебряной рыбой, так что ноги гребцов лежат на ней вытянутыми прямо и попирают ее. Небрежно, на ходу, в то время когда гребцы почти еще не замедляют разгона лодки, Юра соскакивает на деревянную пристань.
Тотчас начинается торг со скупщиками.
– Тридцать! – говорит Юра и хлопает с размаху о ладонь длинной костлявой руки высокого грека.
Это значит, что он хочет отдать рыбу по тридцать рублей за тысячу.
– Пятнадцать! – кричит грек и, в свою очередь, высвободив руку из-под низу, хлопает Юру по ладони.
– Двадцать восемь!
– Восемнадцать!
Хлоп-хлоп…
– Двадцать шесть!
– Двадцать!
– Двадцать пять! – говорит хрипло Юра. – И у меня там еще идет один баркас.
А в это время из-за горла бухты показывается еще один баркас, другой, третий, еще два сразу. Они стараются перегнать друг друга, потому что цены на рыбу все падают и падают. Через полчаса за тысячу уже платят пятнадцать рублей, через час – десять и, наконец, пять и даже три рубля.
К вечеру вся Балаклава нестерпимо воняет рыбой. В каждом доме жарится или маринуется скумбрия. Широкие устья печей в булочных заставлены глиняной черепицей, на которой рыба жарится в собственном соку. Это называется: макрель на шкаре – самое изысканное кушанье местных гастрономов. И все кофейные и трактиры наполнены дымом и запахом жареной рыбы.
А Юра Паратино – самый широкий человек во всей Балаклаве – заходит в кофейную, где сгрудились в табачном дыму и рыбьем чаду все балаклавские рыбаки, и, покрывая общий гам, кричит повелительно кофейщику:
– Всем по чашке кофе!
Момент всеобщего молчания, изумления и восторга.
– С сахаром или без сахару? – спрашивает почтительно хозяин кофейни, огромный, черномазый Иван Юрьич.
Юра в продолжение одной секунды колеблется: чашка кофе стоит три копейки, а с сахаром пять… Но он чужд мелочности. Сегодня последний пайщик на его баркасе заработал не меньше десяти рублей. И он бросает пренебрежительно:
– С сахаром. И музыку!..
Появляется музыка: кларнет и бубен. Они бубнят и дудят до самой поздней ночи однообразные, унылые татарские песни. На столах появляется молодое вино – розовое вино, пахнущее свежераздавленным виноградом; от него страшно скоро пьянеешь и на другой день болит голова.
А на пристани в это время до поздней ночи разгружаются последние баркасы. Присев на корточки в лодке, двое или трое греков быстро, с привычной ловкостью хватают правой рукой две, а левой три рыбы и швыряют их в корзину, ведя точный, скорый, ни на секунду не прекращающийся счет.
И на другой день еще приходят баркасы с моря.
Кажется, вся Балаклава переполнилась рыбой.
Ленивые, объевшиеся рыбой коты с распухнувшими животами валяются поперек тротуаров, и когда их толкнешь ногой, то они нехотя приоткрывают один глаз и опять засыпают. И домашние гуси, тоже сонные, качаются посредине залива, и из клювов у них торчат хвосты недоеденной рыбы.
В воздухе еще много дней стоит крепкий запах свежей рыбы и чадный запах жареной рыбы. И легкой, клейкой рыбьей чешуей осыпаны деревянные пристани, и камни мостовой, и руки и платья счастливых хозяек, и синие воды залива, лениво колышущегося под осенним солнцем.
3. Воровство
Вечер. Мы сидим в кофейне Ивана Юрьича, освещенной двумя висячими лампами «молния». Густо накурено. Все столики заняты. Кое-кто играет в домино, другие в карты, третьи пьют кофе, иные просто, так себе, сидят в тепле и свете, перекидываясь разговорами и замечаниями. Длинная, ленивая, уютная, приятная вечерняя скука овладела всей кофейной.
Понемногу мы затеваем довольно странную игру, которой увлекаются все рыбаки. Несмотря на скромность, должен сознаться, что честь изобретения этой игры принадлежит мне. Она состоит в том, что поочередно каждому из участников завязываются глаза платком, завязываются плотно, морским узлом, потом на голову ему накидывается куртка, и затем двое других игроков, взяв его под руки, водят по всем углам кофейни, несколько раз переворачивают на месте вокруг самого себя, выводят на двор, опять приводят в кофейню и опять водят его между столами, всячески стараясь запутать его. Когда, по общему мнению, испытуемый достаточно сбит с толку, его останавливают и спрашивают:
– Показывай, где север?
Каждый подвергается такому экзамену по три раза, и тот, у кого способность ориентироваться оказалась хуже, чем у других, ставит всем остальным по чашке кофе или соответствующее количество полубутылок молодого вина. Надо сказать, что в большинстве случаев проигрываю я. Но Юра Паратино показывает всегда на N с точностью магнитной стрелки. Этакий зверь!
Но вдруг я невольно оборачиваюсь назад и замечаю, что Христо Амбарзаки подзывает меня к себе глазами. Он не один, с ним сидит мой атаман и учитель Яни.
Я подхожу. Христо для виду требует домино, и в то время когда мы притворяемся, что играем, он, гремя костяшками, говорит вполголоса:
– Берите ваши дифаны и вместе с Яни приходите тихонько к пристани. Бухта вся полна кефалью, как банка маслинами. Это ее загнали свиньи.
Дифаны – это очень тонкие сети, в сажень вышиной, сажен шестьдесят длины. Они о трех полотнищах. Два крайние с широкими ячейками, среднее с узкими. Маленькая скумбрия пройдет сквозь широкие стены, но запутается во внутренних; наоборот, большая и крупная кефаль или лобан, который только стукнулся бы мордой о среднюю стену и повернулся бы назад, запутывается в широких наружных ячейках. Только у меня одного в Балаклаве есть такие сети.
Потихоньку, избегая встретиться с кем-либо, мы выносим вместе с Яни сети на берег. Ночь так темна, что мы с трудом различаем Христо, который ждет уже нас в лодке. Какое-то фырканье, хрюканье, тяжелые вздохи слышатся в заливе. Эти звуки производят дельфины, или морские свиньи, как их называют рыбаки. Многотысячную, громадную стаю рыбы они загнали в узкую бухту и теперь носятся по заливу, беспощадно пожирая ее на ходу.
То, что мы сейчас собираемся сделать, – без сомнения, преступление. По своеобразному старинному обычаю, позволяется ловить в бухте рыбу только на удочку и в мережки. Лишь однажды в год, и то не больше как в продолжение трех дней, ловят ее всей Балаклавой в общественные сети. Это – неписаный закон, своего рода историческое рыбачье табу.
Но ночь так черна, вздохи и хрюканье дельфинов так возбуждают страстное охотничье любопытство, что, подавив в себе невольный вздох раскаяния, я осторожно прыгаю в лодку, и в то время как Христо беззвучно гребет, я помогаю Яни приводить сети в порядок. Он перебирает нижний край, отягощенный большими свинцовыми грузилами, а я быстро и враз с ним передаю ему верхний край, оснащенный пробковыми поплавками.
Но чудесное, никогда не виданное зрелище вдруг очаровывает меня. Где-то невдалеке, у левого борта, раздается храпенье дельфина, и я внезапно вижу, как вокруг лодки и под лодкой со страшной быстротой проносится множество извилистых серебристых струек, похожих на следы тающего фейерверка. Это бежат сотни и тысячи испуганных рыб, спасающихся от преследования прожорливого хищника. Тут я замечаю, что все море горит огнями. На гребнях маленьких, чуть плещущих волн играют голубые драгоценные камни. В тех местах, где весла трогают воду, загораются волшебным блеском глубокие блестящие полосы. Я прикасаюсь к воде рукой, и когда вынимаю ее обратно, то горсть светящихся брильянтов падает вниз, и на моих пальцах долго горят нежные синеватые фосфорические огоньки. Сегодня – одна из тех волшебных ночей, про которые рыбаки говорят:
– Море горит!..
Другой косяк рыбы со страшной быстротой проносится под лодкой, бороздя воду короткими серебряными стрелками. И вот я слышу фырканье дельфина совсем близко. Наконец вот и он! Он показывается с одной стороны лодки, исчезает на секунду под килем и тотчас же проносится дальше. Он идет глубоко под водой, но я с необыкновенной ясностью различаю весь его мощный бег и все его могучее тело, осеребренное игрой инфузорий, обведенное, точно контуром, миллиардом блесток, похожее на сияющий стеклянный бегущий скелет.
Христо гребет совершенно беззвучно, и Яни всего-навсего только один раз ударил свинцовыми грузилами о дерево. Мы перебрали уже всю сеть, и теперь можно начинать.
Мы подходим к противоположному берегу. Яни прочно устанавливается на носу, широко расставив ноги. Большой плоский камень, привязанный к веревке, тихо скользит у него из рук, чуть слышно плещет об воду и погружается на дно. Большой пробковый буек всплывает наверх, едва заметно чернея на поверхности залива. Теперь совершенно беззвучно мы описываем лодкой полукруг во всю длину нашей сети и опять причаливаем к берегу и бросаем другой буек. Мы внутри замкнутого полукруга.
Если бы мы не занимались браконьерством, а работали на открытом, свободном месте, то теперь мы начали бы коладить или, вернее, шантажировать, то есть мы заставили бы шумом и плеском весел всю захваченную нашим полукругом рыбу кинуться в расставленные для нее сети, где она должна застрянуть головами и жабрами в ячейках. Но наше дело требует тайны, а поэтому мы только проезжаем от буйка до буйка, туда и обратно, два раза, причем Христо беззвучно бурлит веслом воду, заставляя ее вскипать прекрасными голубыми электрическими буграми. Потом мы возвращаемся к первому буйку. Яни по-прежнему осторожно вытягивает камень, служивший якорем, и без малейшего стука опускает его на дно. Потом, стоя на носу, выставив вперед левую ногу и опершись на нее, он ритмическими движениями поднимает то одну, то другую руку, вытягивая вверх сеть. Наклонившись немного через борт, я вижу, как сеть бежит из воды, и каждая ячейка ее, каждая ниточка глубоко видны мне, точно восхитительное огненное плетение. С пальцев Яни стремятся вниз и падают маленькие дрожащие огоньки.
И я уже слышу, как мокро и тяжело шлепается большая живая рыба о дно лодки, как она жирно трепещет, ударяя хвостом о дерево. Мы постепенно приближаемся ко второму буйку и с прежними предосторожностями вытаскиваем его из воды.
Теперь моя очередь садиться на весла. Христо и Яни снова перебирают всю сеть и выпрастывают из ее ячеек кефаль. Христо не может сдержать себя и с счастливым сдавленным смехом кидает через голову Коли к моим ногам большую толстую серебряную кефаль.
– Вот так рыба! – шепчет он мне.
Яни тихо останавливает его.
Когда их работа кончена и мокрая сеть вновь лежит на носовой площадке баркаса, я вижу, что все дно застлано живой, еще шевелящейся рыбой. Но нам нужно торопиться. Мы делаем еще круг, еще и еще, хотя благоразумие давно уже велит нам вернуться в город. Наконец мы подходим к берегу в самом глухом месте. Яни приносит корзину, и с вкусным чмоканьем летят в нее охапки большой мясистой рыбы, от которой так свежо и возбуждающе пахнет.
А через десять минут мы возвращаемся обратно в кофейню один за другим. Каждый выдумывает какой-нибудь предлог для своего отсутствия. Но штаны и куртки у нас мокры, а у Яни запуталась в усах и бороде рыбья чешуя, и от нас еще идет запах моря и сырой рыбы. И Христо, который не может справиться с недавним охотничьим возбуждением, нет-нет да и намекнет на наше предприятие.
– А я сейчас шел по набережной… Сколько свиней зашло в бухту. Ужас! и метнет на нас лукавым, горящим черным глазом.
Яни, который вместе с ним относил и прятал корзину, сидит около меня и едва слышно бормочет в чашку с кофе:
– Тысячи две, и все самые крупные. Я вам снес три десятка.
Это моя доля в общей добыче. Я потихоньку киваю головой. Но теперь мне немного совестно за мое недавнее преступление. Впрочем, я ловлю несколько чужих быстрых плутоватых взглядов. Кажется, что не мы одни занималась в эту ночь браконьерством!
4. Белуга
Наступает зима. Как-то вечером пошел снег, и все стало среди ночи белым: набережная, лодки у берега, крыши домов, деревья. Только вода в заливе остается жутко черной и неспокойно плещется в этой белой тихой раме.
На всем Крымском побережье – в Анапе, Судаке, Керчи, Феодосии, Ялте, Балаклаве и Севастополе – рыбаки готовятся на белугу. Чистятся рыбачьи сапоги, огромные до бедер сапоги из конской кожи, весом по полупуду каждый, подновляются непромокаемые, крашенные желтой масляной краской плащи и кожаные штаны, штопаются паруса, вяжутся переметы.
Набожный рыбак Федор из Олеиза задолго до белужьей ловли теплит в своем шалаше перед образом Николая Угодника, Мир Ликийских чудотворца и покровителя всех моряков, восковые свечи и лампадки с лучшим оливковым маслом. Когда он поедет в море со своей артелью, состоящей из татар, морской святитель будет прибит на корме как руководитель и податель счастья. Об этом знают все крымские рыбаки, потому что это повторяется из года в год и потому еще, что за Федором установилась слава очень смелого и удачливого рыбалки.
И вот однажды, с первым попутным ветром, на исходе ночи, но еще в глубокой тьме, сотни лодок отплывают от Крымского полуострова под парусами в море.
Как красив момент отплытия! Сели все пятеро на кормовую часть баркаса. «С богом! Дай бог! С богом!» Падает вниз освобожденный парус и, похлопав нерешительно в воздухе, вдруг надувается, как выпуклое, острое, торчащее концом вверх белое птичье крыло. Лодка, вся наклонившись на один бок, плавно выносится из устья бухты в открытое море. Вода шипит и пенится за бортом и брызжет внутрь, а на самом борту, временами моча нижний край своей куртки в воде, сидит небрежно какой-нибудь молодой рыбак и с хвастливой небрежностью раскуривает верченую папиросу. Под кормовой решеткой хранится небольшой запас крепкой водки, немного хлеба, десяток копченых рыб и бочонок с водой.
Уплывают в открытое море за тридцать и более верст от берега. За этот длинный путь атаман и его помощник успевают изготовить снасть. А белужья снасть представляет собою вот что такое: вообразите себе, что по морскому дну, на глубине сорока сажен, лежит крепкая веревка в версту длиной, а к ней привязаны через каждые три-четыре аршина короткие саженные куски шпагата, а на концах этих концов наживлена на крючки мелкая рыбешка. Два плоских камня на обеих оконечностях главной веревки служат якорями, затопляющими ее, а два буйка, плавающих на этих якорях на поверхности моря, указывают их положение. Буйки круглые, пробковые (сотня бутылочных пробок, обернутых сеткой), с красными флажками наверху.
Помощник с непостижимой ловкостью и быстротой насаживает приманку на крючки, а атаман тщательно укладывает всю снасть в круглую корзину, вдоль ее стен, правильной спиралью, наживкой внутрь. В темноте, почти ощупью, вовсе не так легко исполнить эту кропотливую работу, как кажется с первого взгляда. Когда придет время опускать снасть в море, то один неудачно насаженный крючок может зацепиться за веревку и жестоко перепутать всю систему.
На рассвете приходят на место. У каждого атамана есть свои излюбленные счастливые пункты, и он их находит в открытом море, за десятки верст от берега так же легко, как мы находим коробку с перьями на своем письменном столе. Надо только стать таким образом, чтобы Полярная звезда очутилась как раз над колокольней монастыря св. Георгия, и двигаться, не нарушая этого направления, на восток до тех пор, пока не откроется Форосский маяк. У каждого атамана имеются свои тайные вехи в виде маяков, домов, крупных прибрежных камней, одиноких сосен на горах или звезд.