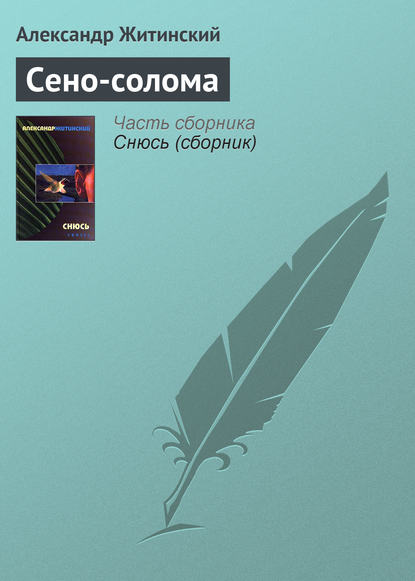Полная версия:
Александр Николаевич Житинский Вчера, сегодня, позавчера…
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Александр Житинский
Вчера, сегодня, позавчера…
Он приехал рано утром, в субботу. Дети еще спали, а я на кухне мыла посуду. У меня всегда с вечера остается посуда, а тут осталась еще с позавчерашнего вечера. Целая гора грязной посуды. Я встала в шесть часов и принялась ее мыть. Я уже почти успокоилась, а потом услышала, как в замке поворачивается ключ. Осторожно так, виновато.
Он прямо в пальто вошел в кухню и встал сзади. У меня слезы снова сами собой закапали, но я не хотела их ему показывать. Стояла и терла тарелку.
– Ириша… – сказал он. – Я приехал.
Я сама видела, что он приехал. И все наизусть знала, что он скажет. Если бы только я смогла не зареветь, я бы повернулась и сказала: «Привет!» Интересно, что бы он тогда сделал?
– Я тебе потом объясню, можно? – сказал он.
– Можешь вообще не объяснять, – сказала я.
А еще лучше было бы, если бы он приехал, а меня нет. Дети на месте, а меня нет. Надо было выкинуть с ним такую штуку. У него всегда есть к кому вернуться.
Он все стоял, хоть бы разделся, повесил бы пальто в прихожей. Я бы успела слезы стереть, а потом сказала бы: «Привет!» Хотя теперь уже поздно, нужно было сразу.
– Ты понимаешь, мне нужно было ее увидеть…
Все это уже было восемь лет назад. Ничего не изменилось. Ему сейчас нужно было врать, врать, небрежно так врать, будто все в порядке вещей. Пропал на двое суток, потом явился. Но он бережет свою честность. Он считает, что мне так легче.
Все равно бы я ему не поверила. Наизусть знаю.
Он наконец ушел раздеваться. Я слезы вытерла, а они опять потекли. Никто ничему не научился: ни он, ни я. И она тоже не научилась.
Странно, что я на нее не злюсь.
Он снова пришел, обнял меня за плечи и стал тыкаться носом в шею. Его тоже жалко. Ему не повезло, что он в такую ситуацию попал. Это не для его характера.
Он кончиками пальцев провел по моей щеке, и они у него стали мокрыми. Тогда он повернул меня к себе и стал целовать в щеки, а слезы слизывал языком.
Тут я подумала, что она, наверное, тоже вчера плакала, когда он с ней прощался. А он тоже ее так целовал. Мне его еще жальче стало. Что за радость целовать плачущих женщин?
– Не сердись… – сказал он.
Он даже прощения не просил, потому что считал, что не виноват. А кто виноват? Наверное, я виновата, что нарожала ему детей, пока он разбирался, что к чему.
– Пойди вымой руки, – сказала я.
Он пошел. Вымыл руки, потом побрился. Дети проснулись и выскочили из комнаты. Он им улыбнулся, что-то сказал, и мне показалось, что ничего не было, просто так, дурной сон. Всегда я на это попадаюсь.
Мы завтракали вместе почти как всегда. Он даже шутил, а это было задвинуто куда-то в дальний угол и лежало там до поры до времени. Все равно никуда его не денешь, не выбросишь.
День был длинный и какой-то бестолковый. Я не могла дождаться вечера, очень устала. Пошли с детьми в Парк культуры, Алик был предупредительнее и внимательнее, чем обычно. Возвращаться домой не хотелось, потому что мы оба знали, что о н о все еще там лежит. Когда катались на карусели, он обнял меня и долго внимательно смотрел в глаза. Нет, он не сравнивал нас, я знаю. Он еще тогда объяснил мне, что мы «находимся в двух непересекающихся пространствах». Наверное, это ему кажется.
Господи, мы еще катались на карусели! Подумать только.
Вечером он ходил по комнате и раза три подошел к окну. Долго смотрел в одну точку. Все, ну все как тогда! Только я, пожалуй, уже не воспринимаю это так трагически. И совсем не от уверенности, что он никуда не денется. Просто что-то перегорело еще тогда, восемь лет назад.
Раньше, когда я была девочкой, я думала, что любовь – это для людей от шестнадцати до двадцати пяти. Дальше уже неинтересно и незачем. И вот оказывается, что она, совсем как человек, тоже переживает детство, юность, зрелость… Наверное, переживает и старость, посмотрим. Конечно, я его люблю, но это уже зрелость. Она у меня с привкусом горечи, потому что, когда любовь у нас переживала юность, все и случилось. Сейчас мне уже не страшно, а вот тогда я могла сломаться.
Я легла рано и быстро заснула. Проснулась я ночью внезапно, будто от толчка, и увидела, что Алик сидит за столом и пишет. Он сидел ко мне спиной. Я долго на него смотрела и повторяла про себя: «Оглянись, оглянись…» Раньше это у меня получалось, он оглядывался. Но сегодня он все писал и писал, не отрываясь.
Мне даже не нужно было спрашивать или заглядывать. Я знала, кому он пишет. Потом я снова заснула, и мне снилось то же: он сидит и пишет, а исписанные листы падают на меня, и мне становится тяжело, душно.
Утром он спал рядом со мной, а на столе ничего не было.
…Я пишу это, чтобы не забыть тебя.
Мне нужно ежедневно тщательно придумывать тебя заново, не упуская ни малейшей подробности – от походки до тонкой прядки волос, отбившейся от прически и спускающейся на лоб к острому кончику брови, – прядки, которую ты поправляешь легким движением, каждый раз смешивая мои мысли и заставляя тобою любоваться. Мне нужно вспоминать тебя прилежно, как школьное стихотворение, повторяя вслух интонации и копируя насмешливый тон твоих разговоров, пока я не почувствую, что это безнадежное и унылое занятие, но я все равно стану это делать, потому что иначе ты вообще исчезнешь, не оставив мне взамен ничего, кроме фотографии восьмилетней давности, на которую я не должен смотреть, ибо она бессовестно врет.
Фотографии лгут своей правдоподобностью, своею похожестью на правду, своей, если можно так выразиться, доказательностью. И на той фотографии все твое, то есть настолько твое, что по ней можно отыскать тебя в толпе, если бы это кому-нибудь понадобилось. Но я отыскиваю тебя в памяти, и она вступает в противоречие с фотографией. Я даже не знаю, чего больше в моей памяти – воображаемого или реального.
Сегодня был второй день, отпущенный нам за шестнадщать лет. Это настолько забавно, если учесть, что мы продолжаем любить друг друга так же, как позавчера, то есть в девятом классе средней школы, это настолько занятно, повторяю, что можно весело посмеяться насчет темпов нашей любви, которая в конце концов, годам к шестидесяти, даст нам полнощенную неделю общения. И сегодня мы бесстрашно смеялись над временем, когда бродили по черной февральской Москве, по слякоти, по переулкам, уставленным грязными автомобилями, то и дело натыкаясь на красные огни светофоров.
Сегодняшний день я могу описать минуту за минутой, начиная с той, когда я понял, что еду к тебе, и кончая последней, когда почувствовал, что от тебя уезжаю. Вчерашний день восьмилетней давности уже зыбок, непрочен и смешан с фантазией, а наше позавчера вовсе нереально, оно эфемерно, как ты выразилась, между тем как именно там все было по-настоящему. Я уже сталкивался с такой непонятной на первый взгляд вещью, когда сегодняшний день с его утомительными и верными подробностями кажется тем не менее лишенным правды, а выдумка, по сути чистая игра воображения, оказывается стократ истинней. И тут полная аналогия с фотографией, на которой ты – это не ты, а всего лишь твое изображение…
Иногда я вспоминаю первые дни нашего знакомства.
Это было в институте, на третьем курсе. Алик потом говорил, что он целый месяц подстраивал все так, чтобы со мной познакомиться. Он перевелся в наш институт из другого и оказался в параллельной группе. На общих лекциях он садился рядом или неподалеку, в перерывах ходил мимо, а я ничего не замечала. То есть я видела его, конечно, но у меня и в мыслях не возникало что-то такое. Он был очень не для меня, я обычно таких ребят сразу отодвигала в сторону. Я была стеснительная, для меня прямо мука была с кем-нибудь заговорить. И нравились мне тоже такие. А ему вроде ничего не стоило завязать разговор, шуточки, то да се… И никогда не поймешь, шутит он или нет. Я как услышала, что наши девочки из группы его обсуждают, так и решила: не для меня. Они говорили про него «интересный», а я этого слова терпеть не могу.
Поэтому я сначала не поверила, когда заметила, что он рядом вертится. Думала, что он с кем-нибудь из наших девочек хочет познакомиться. Нарочно стала отсаживаться от них, а он за мной. Первое время как бы между прочим, а потом все стали замечать и удивляться.
Я думаю, что стали удивляться, хотя мне никто не говорил.
Он долго со мной не заговаривал, просто сидел рядом. С другими запросто болтал, а на меня только посматривал. Потом однажды перед какой-то лекцией сказал, когда я мимо проходила:
– Я вам место занял… Садитесь.
Я растерялась и сдуру брякнула:
– Мы с вами не знакомы.
Прямо как в трамвае. Он на меня посмотрел долгим взглядом, и тут я увидела, или мне показалось, что он не такой вовсе, как я о нем думаю. Я раньше не замечала, что глаза у него грустные. Он посмотрел и сказал медленно:
– Я знаю, как вас зовут, и фамилию тоже. И вы знаете… Значит, мы знакомы. Садитесь… И вообще это не тот случай.
Я не поняла, что он хотел этим сказать, но села. После лекции он пошел меня провожать. Он это сделал так, что все увидели: нес мой портфель, как первоклассник, и был серьезен.
Мы шли и молчали. У самого дома он отдал мне портфель и сказал:
– Ты не сердись, что я молчал. Мы еще с тобой наговоримся.
И я не знаю, почему у меня вырвалось:
– Все равно у нас с тобой ничего не выйдет!
Он мне ничего не предлагал еще, три слова сказал, но я как-то почувствовала, что он упрямый и самолюбивый. И все-таки не очень для меня.
– Выйдет! – сказал он, повернулся и ушел.
А когда отошел метров на двадцать, обернулся и крикнул:
– Спорим?
Ему тогда двадцать лет было и мне тоже. Я до сих пор не знаю, кто же выиграл тот спор.
Получилось так, что с самого начала между нами не было никакой тайны. Все было ровно. Потом, когда мы с ним разговорились, он стал про себя рассказывать. Он мне все рассказывал, и про всех своих девушек тоже. Кроме одной, как после выяснилось. Я уже догадывалась, что он увлекающийся, поэтому думала, что и со мной это так, на время. И самое главное, я не могла в него влюбиться. Ну так, чтобы мучиться, ссориться, ревновать и все такие вещи. У меня один раз до него это было.
Он ходил меня провожать, водил в театры и в кино, а я все твердила: «Зачем тебе это? ничего хорошего все равно не получится». А он только усмехался и говорил: «Посмотрим».
Незаметно он приобрел надо мной какую-то власть. Мне уже было не по себе, когда его рядом не было. Я очень несамостоятельная и робкая. Я людей с детства боялась, а все думали, что я излишне гордая и заносчивая. Он первый отгадал, какая я на самом деле.
Потом уже, когда поженились, мы с ним долго говорили об этом. Мы до сих пор любим обсуждать всякие тонкости, только мне сперва казалось, что разговоры интересны только мне. Я до него так мало говорила с другими, что у меня много накопилось. Позже я узнала, что ему тоже интересно.
Вот о чем мы говорили. Каждый человек имеет о себе мнение. Он думает, что он такой, такой и такой. Но когда он среди других людей, он ведет себя так, что всем кажется: он не такой, не такой и не такой. Он как будто маскируется, чтобы его до поры до времени не узнали. Люди составляют о нем мнение, а он это мнение проверяет своим. Очень редко находится кто-то, кто видит его таким, каким он сам себя видит.
Алик сразу увидел, еще до знакомства, что я робкая и привязчивая, как собачонка. А я поняла, что он одинокий. Однажды я ему это сказала, и он очень обрадовался.
– Иришка, ты вундеркинд! – сказал он. – Как ты догадалась? Я это очень умело скрываю.
Мы уже месяц ходили вместе, и на лекциях, и в перерывах, и в столовой, и в читалке, а он меня ни разу не поцеловал. Наши девочки сгорали от любопытства, когда же это у нас кончится? Никто не сомневался, что кончится, потому что он считался ветреным.
Перед самыми ноябрьскими праздниками мы пошли в театр. Возвращались поздно. В тот день упал первый снег. На улице никого не было, мы шли и оглядывались на свои следы. Идти было мягко. Потом мы еще час ходили вокруг моего дома, протоптали дорожку в снегу. Когда мы прощались, он меня поцеловал.
Я помню, что мне после этого стало хорошо и грустно. До него я один раз целовалась, как в лихорадке, губы сухие, в ушах кровь стучит. Это было в школе, когда я влюбилась.
А тут было тихо, легко, снег опускался, хотелось полететь.
Потом мы с ним целовались по-разному – и долго, и страстно, и исступленно как-то, а в первый раз грустно и легко.
Когда он уходил, он посмотрел на меня виновато. Через четыре года я узнала, почему он так посмотрел.
…Позавчера нам было по шестнадцать лет, и все, что с нами тогда происходило, я способен уместить теперь в трех-четырех воспоминаниях.
Наша школа была кораблем без мачт, плывущим по улице далекого города, слишком далекого, чтобы с уверенностью вернуться туда даже в мыслях. Вероятно, она и сейчас гудит басом, отвечая на приветствия кораблей, входящих в залив, но это кажется не слишком правдоподобным. Город, рассыпанный по склонам сопок, сохранился в памяти лишь местами, точно Парфенон древних греков. Торчащая вверх, как ветка дерева, улочка, по которой я бегал в школу, обрывается с одной стороны пропастью, где стоял твой дом, покрашенный в красный цвет. Я помню дверь подъезда, а рядом прочную тумбу ворот, скрипучих, железных, с гранеными прутьями и пробегающим сквозь них ветром с залива. Створка этих ворот медленно сдвигалась с места, а прутья жгли пальцы, потому что был январь.
Там остались два месяца: январь и июнь. И еще один день в начале октября, когда ты уезжала с нашего края света на другой.
Я беру январь в ладони, точно сосульку, и разглядываю его, пока он тает. Мне нужно успеть его вспомнить, хотя это не доставит нам радости. Мне нужно вспомнить новогодний бал старшеклассников в Доме офицеров флота, куда я пригласил тебя.
Мальчик со смазливой физиономией, что вел тебя в Дом офицеров, был одет по провинциальной моде того времени. На нем был серый, спортивного вида пиджак и черная шелковая рубашка, под воротничком которой болтался узенький желтый галстук. Мальчик был немного пижон. Когда он надел эту рубашку и стал пробовать к ней различные галстуки перед зеркалом, он себе чрезвычайно нравился. Ни один галстук не подошел к черной рубашке. Мальчик был чисто вымыт, и уши у него светились. Он стал рыться в шкафу, надеясь найти что-нибудь подходящее, и увидел желтую матерчатую полоску, довольно длинную. Не раздумывая, он повязал ее на шею. Конец получившегося галстука болтался где-то на уровне колен. Мальчик отрезал его ножницами и пошел показываться маме. «Это же пояс моей ночной сорочки! – сказала мама. – Ты совсем с ума сошел, Алик!» – добавила она, но я уже победоносно нахлобучивал шапку и вылетал из дома.
Что это было за время! Мода на черные рубашки, появившаяся откуда-то с Запада, может быть, из Тамбова или Саратова, прекрасно уживалась с матросскими брюками «клеш», которые болтались и на мне, потому что я тоже был в душе моряком. В таком виде я появился в Доме офицеров, где горела елка.
Мальчики и девочки с глазами, блестящими, как елочные игрушки, музыка, спирали серпантина, черные с голубым курсанты, казавшиеся нам невиданными красавцами, какой-то жизнерадостный и даже на тогдашний мой взгляд неумный затейник и танцы того старинного времени: «Брызги шампанского» и «Рио-рита».
Я до сих пор люблю эти наивные мелодии, и у меня влажнеют глаза, когда шипящее танго «Брызги шампанского» вертится под иглой проигрывателя.
Там была одна девочка, и ты, наверное, помнишь ее лучше, чем я. Я ее совсем не помню: ни имени, ни фамилии, ни лица. Она появилась в нашей школе незадолго перед Новым годом и уже успела состроить мне глазки, а я успел это заметить. Она пришла с курсантом, от которого остались в памяти две желтые птички нашивок на темном рукаве.
Ты куда-то исчезла, а я танцевал с нею почти весь вечер, наслаждаясь победой над неизвестным курсантом.
Потом мы шли с тобою по улице вечернего города. Собственно, улицы никакой не было, а была серая, покрытая ледяной коркой полоска тротуара необычайной длины. Мы шли молча, ровно, и мое подленькое предательство тащилось сзади, противно скуля. Прохожие обходили его неприязненно и оборачивались нам вслед. Но вот ты повернулась ко мне, и я увидел твои глаза – темные, страдающие, глубокие, как сегодня на вокзале.
Тогда не было ничего решено. Тогда мы дружили, как принято выражаться на школьном языке, и даже не целовались. Я знал, что нравлюсь тебе – это я понял из твоего собственного дневника, который я нашел как-то случайно и не удержался, чтобы не прочесть. Там, на первой же страничке, было написано по-детски честно твоим ученическим почерком, сохранившимся до сих пор: «Мне очень нравится один мальчик…» Из дальнейшено текста мальчик установил, что речь идет о нем, и это его ошеломило. Удивительно, что я пользовался и пользуюсь этой страничкой дневника, будто неким пожизненным векселем, будто страховой бумажкой, которая надежно, выгодно и удобно охраняет мои права на тебя. Еще удивительнее, что так оно и есть. Я уверен в твоем постоянстве и любви, которая тихо горела в сторонке все эти годы, несмотря на то что в твоей и в моей жизни произошли огромные по юношеским масштабам события. У тебя такой характер, ты верная, так же как и моя жена, но как мне сохранить верность вам обеим?..
И все же я узнала о ней раньше, чем Алик мне сказал.
В первый год после свадьбы мы жили у его родителей. Меня там приняли хорошо, но я чувствовала, что принесла с собой некоторое разочарование. Они против меня ничего не имели, но я была не для их сына. Если бы он со мной походил и бросил, они бы даже жалели меня. Но жену Алика они представляли как-то по-другому.
Он для них всегда был блестящим. Блестящий ученик, блестящий спортсмен, за что бы они ни брался, все у него получалось. И жена у него должна была быть блестящей. Во всяком случае, красавицей.
Они его не отговаривали, для них это было полной неожиданностью. Они просто советовали повременить. Я думаю, тогда они впервые узнали, что Алик упрям. Они его видели таким же, как все, только еще более блестящим и способным. Я тогда этому удивилась, а сейчас вот приглядываюсь к своему сыну и боюсь, сумею ли смотреть на него изнутри, а не снаружи.
Родители Алика не смогли посмотреть на меня его глазами. Я их не виню, это ведь редкость, мои родители меня тоже плохо знали.
Мы тогда увлекались фотографией. Я сидела дома в декретном академическом отпуске и клеила фотокарточки в альбом. Мы решили сделать два альбома: его и мой. А потом уже делать общий, где мы вместе на фотокарточках.
У Алика альбом получился толще. Его любили фотографировать. Мы разместили все в хронологическом порядке. Алик грудной, потом дошколенок, первоклассник и так далее. Алик спортсмен, Алик на физической олимпиаде, Алик у моря.
Два листа альбома он сделал сам, без меня. Я не заметила, когда он их сделал. На них были школьные фотографии девятого и десятого класса. На одной была группа девочек. На другой, блеклой, желтенькой, – вид класса на перемене: кто-то стоит спиной, кто-то жует, а на последней парте улыбается девочка. Потом эта девочка на вокзале. Платье в горошек, букет цветов в руках и улыбка. На этой фотографии она улыбалась не так, как в классе. Она старалась улыбаться, чтобы не заплакать. Со мной так часто бывает, поэтому я узнала улыбку.
Девочка мне понравилась, я в ней почувствовала что-то родственное. На фотографии ей было шестнадцать, а мне тогда было двадцать два. Я смотрела на нее немножко сверху вниз, я уже знала Алика таким, каким она не знала.
Теперь нам по тридцать два года. Мы сравнялись.
Хотя нет, мы сравнялись раньше, в двадцать пять. С тех пор мы живем, ощущая присутствие друг друга. Алик со своими «непересекающимися пространствами» ничего не понимает.
Еще на одном листе мы с Аликом наклеили всех его бывших возлюбленных. Я сама их клеила. В центре я поместила его портрет в возрасте девятнадцати лет, а вокруг целую кучу девушек. Мы с ним смеялись, он мне про них рассказывал. Это были увлечения со скоростью звука, так он говорил. Одной он увлекался неделю, другой целый месяц. Я удивилась. Девушки все как на подбор были красивые, гораздо красивее меня и той, с букетиком.
Этот альбом любила рассматривать мать Алика. Мы с ней сидели в кухне и шили распашонки. Тогда она мне и рассказала про нее.
– Она Алика очень любила, – сказала она. – Ее отца перевели куда-то далеко. Она уехала в начале десятого класса… Потом я как-то встретила одну родительницу, я в родительском комитете была, мать ее подружки, и она мне рассказала, что дочка получает письма. «И там все про вашего Алика, все про Алика». Она, когда уехала, очень заболела, чуть не умерла…
– А вы Алику сказали? – спросила я.
– Нет, что ты! Я мечтала, чтоб он поскорее забыл. Он ведь тоже… Ну теперь-то дело прошлое…
Все-таки они его плохо знали. Уж если он вобьет себе что-нибудь в голову, это надолго. Вот так же он вбил себе, что я буду его женой. Между прочим, он мне об этом сказал почти сразу. На ноябрьские, на третьем курсе, у нас был курсовой вечер. Мы с ним танцевали, вот тогда он и сказал на ухо:
– Ты выйдешь за меня замуж.
Он даже маленького вопросительного знака в конце не поставил. Будто он один решал.
– Неинтересно, – сказала я. – Другие мучаются, сомневаются, гадают на лепестках: любит, не любит…
– А мы в эти кошки-мышки играть не будем. Мы поженимся и будем жить всю жизнь. Это очень долго и довольно серьезно, поэтому ты привыкай к этой мысли.
Мне показалось, что он старше меня лет на десять. Это было удивительно, его все считали легкомысленным.
Я шила розовую распашонку, потому что знала, что у меня будет дочь. На столе лежал раскрытый альбом. Девочка все улыбалась, улыбалась, почти плакала. И вдруг я подумала: «А если бы они сейчас встретились?..»
…Когда я сел в самолет, пытаясь сквозь круглое окошко разглядеть тебя в толпе провожающих, над которой летали маленькие белые ладони, где-то на юге Ирина уже ехала в жарком автобусе на аэродром встречать меня. Три часа я находился в пространстве между вами, ничего не понимая и тупо уставясь в облака подо мною, которые ползли к тебе на север, точно ковер из белых одуванчиков. Потом самолет проткнул этот ковер, причем одно семечко одуванчика с парашютом залетело в самолет, и я вдохнул его носом, отчего у меня выступили слезы. Над толпой встречающих кружились уже загорелые ладони, одна из которых принадлежала жене. Я сразу увидел ее, худую и смуглую от солнца. Она радостно смеялась, а у меня в глазах стояли слезы из-за проклятого одуванчика, так что наша встреча оказалась испорченной.
Потом была душная густая ночь, когда мы с Ириной лежали на влажной простыне, не касаясь друг друга, совершенно неподвижно, и я мертвым голосом объяснял, что не могу до нее дотронуться. Ты тоже была в этой комнате и стояла, видимо, за занавеской из марли, потому что, когда я подошел к двери, занавеска отпрянула от меня, как живая.
А ведь вчерашний день, предшествовавший нашему с женой объяснению, был, вероятно, самым счастливым днем моей жизни…
Ты появилась внезапно, сначала в виде открытки, на которой как-то весело были написаны обыкновенные слова, будто мы расстались неделю назад. В открытке сообщалось, что ты приехала в Ленинград поступать в Академию художеств на заочный и хотела бы на меня посмотреть. Было лето, был август, и нам было по двадцать четыре года всем троим: тебе, моей жене и мне.
Я положил открытку на стол в своей комнате и стал ходить вокруг нее, поглядывая, не исчезнет ли она. Время от времени я подходил к открытке и перечитывал ее, не дотрагиваясь. У меня будто все провалилось внутрь и лежало там темным запутанным клубком, конец которого я и не пытался найти. Кажется, я насвистывал что-то. Потом я вдруг полез в шкаф, где хранился альбом с моими школьными фотографиями, и нашел среди них ту, на которой ты с букетом цветов – помнишь? – в платьице, на вокзале. Там же была и другая. На ней мы сфотографированы всем классом на перроне, и в центре с тем же букетом стоишь ты. Мы позировали, посмеиваясь, хотя ты уже понимала, что уезжаешь насовсем, а я не понимал, для меня не было тогда такого слова. Потом нас стали усиленно оставлять вдвоем, чтобы мы попрощались и поцеловались в конце-то концов. Особенно старалась твоя подружка Таня, она очень за нас переживала.
Я перевернул страницу альбома, закрыл глаза и увидел тот вокзал по-настоящему. И в самом деле, фотографиям нельзя верить! Поезд стоял длинный, зеленый, пахнущий разлукой и дымом, а паровоз выпускал в небо гроздья белых одуванчиков. Моя курточка с серым верхом и твое платье в горошек, сцепившись рукавами, плавно летели вдоль поезда над узким перроном, на котором не было никого. Букет цветов ронял лепестки каждую секунду, а когда все лепестки упали, паровоз свистнул.