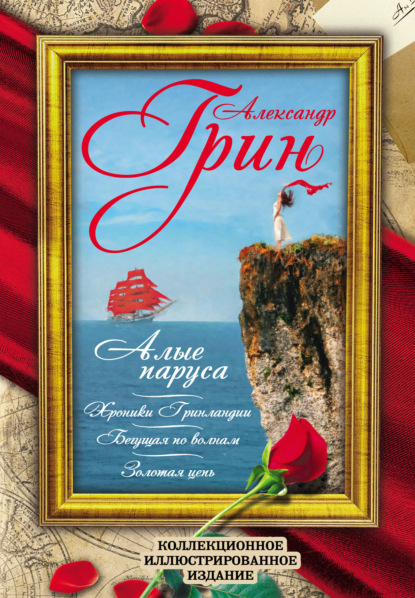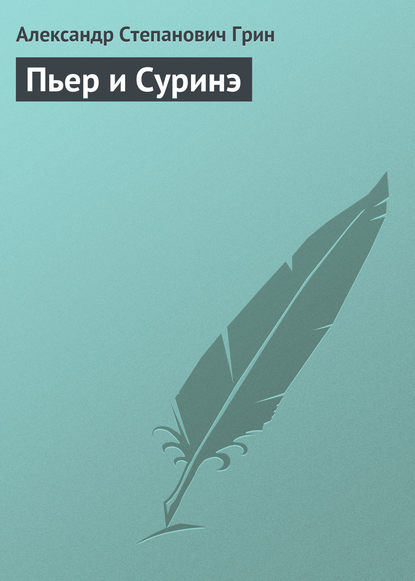 Полная версия
Полная версия- Рейтинг Литрес:5
- Рейтинг Livelib:3.6
Полная версия:
Александр Степанович Грин Пьер и Суринэ
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Александр Степанович Грин
Пьер и Суринэ
Мы верим в чудесное, но до такой степени подозрительны сами к себе, что редко признаемся в этой вере. Тот второй «я», которому равно дороги сказки Шехеразады и таинственные опыты Юма, работа молнии, раздевающей человека догола, не расстегнув пуговиц, и сон «в руку», – этот второй «я» нам кажется посторонним, милым, но недалеким субъектом. Мы часто краснеем за него, когда распаленный видениями, имеющими мало общего с законами будней, он тихо соблазняет нас высказать в кругу старых, добрых материалистов что-либо явно революционное, например, веру в то, что душа бессмертна.
Однако, думая, что таинственнее и чудеснее нас самих, т. е. – человека, людей, – на свете нет, что сами мы, и в скептицизме и в легковерии, одинаково непостижимы ни с какой точки зрения, я беру на себя смелость рассказать милым читателям одно из самых потрясающих происшествий, какие случались когда-либо на нашей планете. Это не сказка, не выдумка и не аллегория – это сама жизнь, голая правда жизни, действительное событие, – факт.
В экипаже четырехмачтового парусника «Атлант» служил матросом некто Пьер, человек лет тридцати двух, разгульный, жестокий и злобный парень; большая мускульная сила и смелость создали ему репутацию опасного человека. Он пропивал обычно все жалованье, но был прекрасным, сметливым моряком и дело свое любил. Отрывистая, грубая речь, презрительное выражение лица и нескрываемое злорадство при виде чужих печалей не особенно располагали дружить с ним; друзей у него не было; а временные приятели, сподвижники кутежей, охладевали к обществу Пьера равномерно с отощанием его кошелька, Пьер не жалел денег, ни своих, ни чужих, вообще он ничего и никого не жалел, нося в душе ту тягостную пустоту, оторванность ото всего, кроме своей профессии, которая, при известных обстоятельствах, приводит к самоубийству, сумасшествию или преступлению.
Да не покажется странным, что этот человек был в связи с девушкой, любившей его той самой совершенной любовью, которую вот уже множество столетий искусство пытается осилить звуками и словами. Девушку звали Суринэ. Она была корсажницей в заведении старухи Вийдук и самой красивой девушкой городка.
Тысячи способов есть познакомиться, нарочно или случайно, и как познакомился Пьер с Суринэ, – мы не старались особенно разузнать. Пламенную любовь Суринэ едва ли можно объяснить качествами избранника, так как Пьер не был пригож, и обветренное лицо его, сильно попорченное оспой, не нравилось даже старым портовым шлюхам, лелеющим, по традиции, несбыточную мечту о жантильных «мальчиках». Однако, мы поймем Суринэ, если согласимся признать два типа души: одну – с ненасытной потребностью быть любимой, другую – с не менее сильной потребностью любить, давать и дарить самой. Суринэ своим темпераментом полно выражала вторую категорию. Пьер был очень неблагодарным материалом для сильного женского чувства, поэтому-то, так как любовь дающая идет по линии наибольшего сопротивления, Суринэ и полюбила его. Это слабое объяснение, не более, как шаткая и поспешная догадка, однако в подкрепление ее мы можем привести общеизвестный факт, именно тот, что у негодяев, большей частью, подруги и жены их – человеческие, хорошие женщины (или были такие в прошлом).
Суринэ редко видела Пьера. Проходило иногда от двух до восьми месяцев, пока «Атлант» возвращался в родной порт, где стоял, в зависимости от погоды и груза, – месяц, полтора, – и редко более. Пьер мало оказывал внимания Суринэ. Он никогда не писал ей, не привозил даже безделушки в подарок и, встречаясь после разлуки, вел себя так, как если бы расстался с Суринэ только вчера. Любовь часто тяготила его. Иногда проблески настоящего чувства вспыхивали и в нем, но тогда ему непременно требовалось напиться, чтобы прийти в равновесие, нарушенное несвойственной его характеру неуклюжей любовной мягкостью. Случалось, что Суринэ покупала ему на свои деньги одежду, пропитую накануне, или часами простаивала в полицейском участке, умоляя выпустить Пьера, попавшего туда за скандал. И все-таки, если бы ей поставили выбор: смерть или жизнь без Пьера, она, не задумываясь, предпочла бы смерть.
В конце февраля «Атлант» бросил якорь у Зурбагана, где должен был простоять несколько дней. Неподалеку от порта жила некая Пакута, женщина вольного поведения, вдова почтальона. Пьер всегда, попадая в Зурбаган, бывал у нее, и с ней, пьянствуя, проводил ночь; на этот раз он собрался сделать то же; когда вахта окончилась, он спустился в кубрик, побрился, захватил кошелек и нож и пришел на улицу Синдиката, к дому Пакуты.
По дороге он выпил в попутном трактире два полных стакана водки и был поэтому нетерпелив, как игрок. Он постучал в наружную дверь; ему не ответили. Подождав немного, он возобновил стук и услышал шаги человека, осторожно сходившего по лестнице.
– Кто это ломится так поздно? – раздался голос вдовы. – Второй час ночи, и я лежу.
– Это я, Пьер, – сказал матрос, – отвори же.
Женщина рассмеялась.
– Ну, голубчик, ты опоздал, – решительно заявила она, – во-первых, я тебя не пущу, а во-вторых, у меня сейчас гости. Кстати – больше не приходи.
И она удалилась.
Пьер в полном бешенстве, не слыша больше звуков шагов и голоса, стал бить в дверь ногами и кулаками с такой силой, что все его тело стонало от сотрясения. Но дверь, заложенная железными засовами, не поддавалась. Пьер впал в исступление: то присаживаясь на тумбу в яростном, кипящем раздумьи, то вскакивая и ломясь снова, он, наконец, постепенно ослабел. С ним происходило нечто страшное: ноги отяжелели, голова кружилась, сердце глухо возилось в груди, как раздавленная птица, и непреодолимая сонливость владела Пьером. Вскочив через силу, чтобы поднять камень и разбить им окно Пакуты, Пьер зашатался, почувствовал, что теряет сознание, и упал навзничь.
Когда рассвело, матроса подобрал полицейский и отвез в больницу. Врач установил смерть от паралича сердца. Матроса похоронили на кладбище Северного Ручья, и один из его бывших товарищей мелом написал на деревянном кресте: «Пьер, с „Атланта“, умер 28 марта 1892 года». Никто не заплакал на похоронах, и недели через три корабль вернулся в свой порт, где, как всегда, принарядившись, застенчиво и трепеща, Суринэ ждала Пьера.
Она сильно удивилась, когда вечером, развязно постучав в дверь, вошел неизвестный ей, легкомысленного вида и навеселе матрос. Вздохнув из приличия, повертев в руках шапку и высморкавшись, посланец, торопившийся к собутыльникам, решил не маять ни себя, ни девушку и дело покончить разом.
– Только не ревите! – сказал он. – Этим ведь не поможешь. Пьер приказал долго жить. Похоронили мы его в Зурбагане, на кладбище Северного Ручья.
Суринэ, выслушав это, слушала еще, машинально, как матрос приводит подробности и, не устояв, села. Стены, потолок, мебель – все прыгало и ломалось в ее глазах. Сознание покинуло ее. Очнувшись, она уже не видела матроса, но слова его, болезненно громко, гремели в комнате, означая, что Пьер умер. Одна мысль, бесповоротно и сразу, вошла в душу Суринэ: ее место там, где лежит он; взглянуть на его могилу и умереть.
Через несколько дней после этого почтовый пароход «Блеск» бросил якорь у Зурбаганского мола, и с парохода поспешно сошла девушка в черном платье, расспрашивая прохожих, как пройти на кладбище Северного Ручья. Ей указали, и к тому времени, когда солнце садилось, несчастная, в последнем его свете, отыскала свежий, с надписью мелом крест; он стоял невдалеке от ограды, в дальнем, самом глухом, зеленом и цветущем углу кладбища.
Суринэ стала на колени, тоскуя и плача, как перед казнью. Ей хотелось молиться, но мысль о молитве настойчиво перебивалась воспоминаниями прошлого, где самые мрачные страницы ее любви казались теперь светлыми праздниками. Она вспомнила, как Пьер подолгу смотрел на нее своим рассеянным, немного косящим взглядом, словно спрашивал у судьбы: «В чем же собственно, дело?», как он дышал, спящий, как неуклюже целовал ее, как, крепко нахмурясь, молчал часами, думая о своем.
Небольшой бугор рыхлой земли с плохо отесанным крестом стоял перед ней мучительной преградой к милому мертвому. Она знала, что может биться головой о крест, и кричать, и звать таинственные силы на помощь – без конца, но и без утешения, что непоправимо страшное свершилось, – знала это умом, но собственное ее сердце билось так живо и больно, что, бессознательно, ощущение своей жизни она переносила и на Пьера, не в силах будучи ясно вообразить, как же это его сердце молчит, когда ее, полное молодого горя, взывает о милосердии? Тихая ярость обезумевшей любви толкала Суринэ к действию; душа ее возмутилась, и мысли, сраженные смертельным несчастьем, перестали быть мыслями человеческими, – грозная тень исступления легла в них, смешав и сокрушив страдающее сознание.
Весь мир стал могилой для Суринэ.
С лицом, мокрым от слез, как от проливного дождя, с глазами, потемневшими от любви, как бы вростая похолодевшими коленями в ненавистную землю, она громко и безумно сказала:
– Прости же меня, отец! Я умираю! Или он встанет из могилы прежде, чем взойдет солнце, или я не оторвусь от этой земли, пока меня не оставит жизнь.
Она встала, с головой, кружившейся от изнурения и печали, расстегнула верхние пуговицы мрачного своего платья, чтобы хотя телом быть ближе к тому, кто не слышал и не мог слышать ее, и, склонясь к насыпи, крепко, нежно приникла к ней нагой грудью, – так крепко, что губы и лицо ее прижались к земле.
Так, неподвижно обнимая могилу, распростерлась девушка Суринэ в третьем часу утра, на кладбище Северного Ручья.
Какое напряжение воли можем мы представить себе в ее слабом теле? Перо наше отступает перед ее душой в эти минуты, – мы не совершим святотатства, пытаясь заковать в жалкие, неверные слова величайшее роковое усилие любви – все в муках и трепете…
И вот, жизненное тепло молодого тела стало покидать Суринэ. Как лицо, подставленное ледяному ветру, стыла, коченея от земляной сырости, ее белая грудь, посерели недавно еще красные от рыданий щеки; неодолимая слабость постепенно сокращала дыхание, в нервной неровности которого еще слышались могильной траве, осенявшей ее виски, отголоски слез. Измученное тело Суринэ приближалось к обмороку, к бессознательному состоянию, предсмертному упадку превысивших себя сил. Все глуше, все тягостнее сокращалось сердце. Суринэ не могла бы уже понять, если б и захотела, – жива она, бодрствует и что с Пьером, – но, застывая в скорби, тайно чувствовала его под собой – не мертвым.
Тем временем ясное утро весны подбиралось, минуя далекие леса и горы, к кладбищу Северного Ручья, так же тихо и ласково, как нежные пальцы любимой, коснувшись виска друга, пробираются в глубь покорных волос, грея голову, заставляя глаза смеяться, а голове приказывая быть неподвижной, пока длится безмолвный привет.
Еще не взошло солнце, но листья затрепетали уже в ровном и ясном свете, и токи воздушных струй, играя с пространством, были теплы по-утреннему. Шиповник и белена, крапива и анютины глазки, маргаритки и колючий волчец показались, наконец, из предрассветных сумерек во всей нехитрости своей жизни, бесцельной и радостной. Проснулись, мелькая в воздухе, зеленые мухи, любительницы сидеть на солнце, утираясь лапками, умные бисерные глаза ящерицы показались на углу могильной плиты, и невидимые в кустах птицы начали робкую перекличку.
Суринэ лежала, замирая в тяжком бессилии. И вот когда показалось ей, что каждый ее вздох мгновенно может оказаться последним, – сорваться и улететь, как пух, оставив грудь бездыханной, – судорожный толчок земли вверх, короткий, но подступивший к сердцу, рассеял ее предсмертное томление…
– Это твое сердце разорвалось, Суринэ, – сказала она, но тут же почувствовала, как мертвое уже – в мыслях ее – сердце стучит в невыразимом волнении, в жутком и страшном трепете.
Она приподнялась, движимая как бы чужой волей, приникла ухом к земле, и там, из таинственной глубины праха, услышала темные звуки жизни, шорох и неясное трение, и глухой отзвук голоса, который, может быть, оглашал тесноту гроба воплем, близким к безумию. Не думая о том, слышно ее или нет, Суринэ крикнула всей всколыхнувшейся грудью:
– Пьер! Мой Пьер! Я здесь, и ты сейчас будешь со мной!
Она быстро обежала вокруг могилы, ища какого-нибудь орудия, заступа, кирки, палки, куска доски, чтобы отрыть Пьера. Судьба помогла ей. Накануне гробокопатель оставил неподалеку от Суринэ, у недорытой могилы, железный заступ. Суринэ схватила его и, тяжкая даже для мужчин, земляная работа показалась ей легкой строчкой батиста. По мере того, как она пробивалась к гробу, стук снизу становился все явственнее и настойчивее. Еще верхнюю крышку гроба закрывала, по углам ее, земля, как Суринэ, с силой, какая никогда, ни ранее, ни потом, не вспыхивала в ней, откинула крышку, и Пьер, поднявшись на дрожащих руках, увидел яркие глаза Суринэ, блестевшие потрясением. Не медля, как бы боясь, что могила вновь сомкнется над ним, она помогла полубесчувственному ожившему взобраться наверх и здесь, прижав его большое тело к себе маленькими руками, дала утреннему воздуху обновить легкие и кровь Пьера.
Наконец, истощенный, но способный уже говорить и двигаться, он сказал:
– Суринэ, меня хотели похоронить?
– Ты умер и воскрес, Пьер, – прошептала девушка, – молчи же, приди в себя. Мы никому не скажем об этом, для людей это будет страшно подозрительно.
К Пьеру возвращалась память. Он вспомнил ночь перед домом вдовы, но другим воспоминаниям помешало внезапно овладевшее им отвращение к себе – в прошлом, – как к трупу, к могиле, на краю которой он сидел со свешенными в нее ногами, и разбросанной повсюду земле. Они встали, удалившись от печального места, и тогда, наконец, взаимные слова, приведенные в некоторый порядок силой возбужденных душ, объяснили каждому то, что оставалось неясным в их положении. Пьер понял все, понял Суринэ и заплакал.
Когда они уходили с кладбища и Пьер, шатаясь, опирался о плечо девушки, над кладбищем ярко горело солнце.
Нам остается сказать немного о их дальнейшей судьбе. Пьер переменил имя и поселился с Суринэ на берегу моря, недалеко от Кассета. Через два или три месяца он получил место смотрителя маяка, и Суринэ больше не обижал, чем мы весьма и весьма довольны.
Случаи каталепсии, подобные описанному нами в этом рассказе, как известно, не редки. Но, – спрашиваем мы себя с стесненным от стыда сердцем, – возможно ли, допустимо ли, чтобы действительно, по-настоящему умерший человек ожил таким образом? Мы не сомневаемся, что многие признают самое возникновение такого вопроса симптомом безнадежного слабоумия. Пусть так. Но нам так сильно хочется верить, что это – возможно и, может быть, мы так верим уже в это, что, продолжая краснеть, съежившись и прося пощады, упорно говорим: – «Да»…