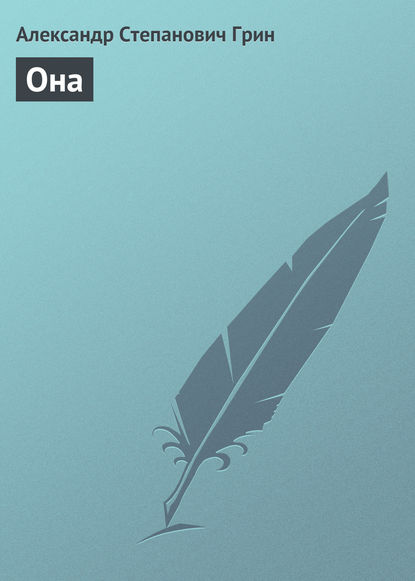 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Александр Степанович Грин Она
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Александр Степанович Грин
Она
I
У него была всего одна молитва, только одна. Раньше он не молился совсем, даже тогда, когда жизнь вырывала из смятенной души крики бессилия и ярости. А теперь, сидя у открытого окна, вечером, когда город зажигает немые, бесчисленные огни, или на пароходной палубе, в час розового предрассветного тумана, или в купе вагона, скользя утомленным взглядом по бархату и позолоте отделки – он молился, молитвой заключая тревожный грохочущий день, полный тоски. Губы его шептали:
«Не знаю, верю ли я в тебя. Не знаю, есть ли ты. Я ничего не знаю, ничего. Но помоги мне найти ее. Ее, только ее. Я не обременю тебя просьбами и слезами о счастье. Я не трону ее, если она счастлива, и не покажусь ей. Но взглянуть на нее, раз, только раз, – дозволь. Буду целовать грязь от ног ее. Всю бездну нежности моей и тоски разверну я перед глазами ее. Ты слышишь, господи? Отдай, верни мне ее, отдай!»
А ночь безмолвствовала, и фиакры с огненными глазами проносились мимо в щелканье копыт, и в жутком ночном веселье плясала, пьянея, улица. И пароход бежал в розовом тумане к огненному светилу, золотившему горизонт. И мерно громыхал железной броней поезд, стуча рельсами. И не было ответа молитве его.
Тогда он приходил в ярость и стучал ногами и плакал без рыданий, стиснув побледневшие губы. И снова, тоскуя, говорил с гневом и дрожью:
– Ты не слышишь? Слышишь ли ты? Отдай мне ее, отдай!
В молодости он топтал веру других и смеялся веселым, презрительным смехом над кумирами, бессильными, как создавшие их. А теперь творил в храме души своей божество, творил тщательно и ревниво, создавая кроткий, милосердный образ всемогущего существа. Из остатков детских воспоминаний, из минут умиления перед бесконечностью, рассыпанных в его жизни, из церковных крестов и напевов слагал он темный милосердный облик его и молился ему.
Миллионы людей шли мимо, и миллионы эти были не нужны ему. Он был чужой для них, они были для него – звук, число, название, пустое место. Один человек был ему нужен, один желанен, но не было того человека. Все многообразие лиц, походок, сердец и взглядов для него не существовало. Один взгляд был нужен ему, одно лицо, одно сердце, но не было того человека, той женщины.
Печальная ласка сумерек изо дня в день одевала его лицо с закрытыми глазами и голову, опущенную на руки. Вечерние тени толпились вокруг, смотрели и слушали мысли без слов, чувства без названия, образы без красок.
Открывались глаза человека, спрашивая темноту и образы, и мысли без слов толпились в душе его.
Тогда говорил он словами, прислушиваясь к своему голосу, но одиноко звучал его голос. А мысли без слов и образы опережали слова его и, клубом подкатывая к горлу, теснили дыхание. И тени сумерек слушали его жалобу, росли и темнели.
– Я один, родная, один, но где ты? Не знаю. Каждый день бегут мимо меня вагоны с освещенными окнами, люди видны в окнах, они поют, смеются или едят. Но тебя нет с ними, родная!
И пароходы, гиганты с бесчисленными глазами, пристают в гавани каждый день, там, где ослепительно горит электричество и движется плотная, черная толпа. Сотни людей идут по сходням, радуются и грустят, но тебя нет с ними, родная!
Грохочут улицы, вывески ресторанов сверкают, как диадемы, и катит людские волны безумный город. Молодые и старые, мужчины и женщины, школьники и проститутки, красавицы и нищие идут мимо, толкают меня и смотрят, но нет тебя с ними, родная!
Я ищу и хочу тебя, хочу ласки твоей, хочу счастья. Я уже не помню как смеешься ты. Я забыл запах твоих волос, игру губ. Я найду тебя. Я бегу за каждой женщиной, похожей на тебя, и, нагнав, проклинаю ее. Жажда томит меня, и высохла моя грудь, но нет тебя. Отзовись же, найдись. Сядь на колени ко мне, щекой прижмись к моему лицу и смейся как раньше, золотом солнца, радостью жизни. Я укачаю, убаюкаю тебя на руках, распущу твои волосы и каждый отдельный волосок поцелую. Я спою тебе песенку, и ты уснешь.
Шли минуты, часы, и звонко бегал маятник, отбивая секунды в живой, мучительной тишине. А он все сидел, очарованный страданием, качаясь из стороны в сторону. И вот из страшной, черной глубины души кто-то, на блоках и цепях, начинал подымать груз невероятной тяжести. От усилий неведомого существа кровь приливала к вискам, стучала и говорила торопливым, безумным шепотом. А тоска металась, острыми крыльями била в сердце, и с каждым ударом крыла хотело крикнуть, застонать сердце, готовое лопнуть, как гуттаперчевый[1] шар. А груз подымался, скрипя, все выше, и медленно прессовал грудь, выгоняя воздух из легких, и ворочался там острыми гранями.
Он сжимал руками голову и, с дрожью напрягая тело, гнал прочь нечеловеческую тяжесть. А груз – воспоминание – все рос, двигаясь, как лавина и звенел забытыми словами, розовым смехом, радостью смущенных ресниц.
Он кричал:
– Не хочу! Не надо!
Но каждый раз, обессиленный, снова и снова видел во весь рост то, что бывает однажды, что не повторится ни с ним, ни с другим, ни с кем, никогда…
II
В саду темно, сыро и хорошо. Три дня он не виделся с ней и теперь пришел трепещущий, довольный и робкий. Под их ногами хрустел песок, и казалось в темноте, что она улыбается, смеется над его любовью, видит ее и думает. От этого волнение еще больше мучило его, и тягостным становилось молчание.
Они сели: он отодвинулся от ее колен, боясь, что прикосновение взволнует его любовь и бессвязными, тяжелыми словами вырвется наружу. Тогда надо будет уйти. Кончится все, и нельзя больше будет видеть ее. Так думал он за пять минут перед самыми счастливыми минутами своей жизни.
– Я вчера ждала вас, – сказала девушка, – и третьего дня ждала, и сегодня. Но вы не приходили. Разве так поступают с друзьями?
Ласковое ожидание слышалось в ее голосе, а ему оно казалось насмешкой, и от этого горькое, обидное чувство мешало дышать. Поборов волнение, он грубо и раздражительно сказал ей:
– Зачем ждали. Разве не все равно вам?
В темноте он почувствовал, как лицо девушки побледнело и сделалось замкнутым от его грубости, как глубокими и печальными стали глаза. Помолчав немного, она сказала с трудом:
– Если вы… я не знаю. Если вам все равно – конечно… Пройдемтесь. Скучно сидеть.
Но уже жалость к себе, к ней, раскаяние и умиление перед своею любовью охватили его. Не зная сам, как – он взял ее руки – горячими и бесконечно милыми были маленькие, тонкие пальцы – и сказал, сперва мысленно, а потом вслух:
– Милая! Милая! Простите меня!
Настало молчание. Казалось, что ему не будет конца. Но уже близилось могучее биение радости. Играла ли в это время музыка, пел ли кто – он не помнит. Кажется, стало светло и тягостно-сладко. Она не отняла своих рук, и он сам благоговейно и осторожно выпустил ее пальцы. Стучало ли его сердце, пел ли кто – он не помнит.
И девушка – его возлюбленная, его радость, встала, и он – без слов, понимая каждое ее движение, пошел за ней, в ее комнату, и там долго, со слезами смотрел, смотрел на ее раскрасневшееся лицо, ставшее вдруг близким-близким, бесконечно простым и добрым. Она смеялась и говорила, а кружево на ее груди трепетало, как бабочка.
– Скажите мне: «Я люблю вас!»
Он повторял, стыдливо и смущенно:
– Я люблю вас! Люблю вас! Нет – тебя люблю!..
Она засмеялась, отвернувшись, а он смотрел на ее плечи, вздрагивающие от смеха, на край розового, маленького уха, обвитого русой прядкой волос. Как-то он подошел к ней, обнял сзади за плечи и шею и вздрогнул от прикосновения теплого, трепетного тела. Она крепко прижалась маленьким, круглым подбородком к его руке и глядела прямо перед собой, в стену, счастливыми, нервно-блестящими глазами. А он спросил:
– Можно мне обнять тебя?
Она засмеялась еще сильнее неслышным, коротеньким смехом. Засмеялась оттого, что он такой смешной: сперва обнял, а потом уже спросил позволения…
III
Так сидел он часами, но груз страшной тяжести висел в его душе, груз с бледным лицом и шутливо-ласковым взглядом. Тогда он вставал и шел в темные, извилистые закоулки города, где пьяное мерцание красных фонарей с разбитыми стеклами освещает грязные булыжники и тонет в блестящих, вонючих лужах. За столиками, где пируют матросы со своими возлюбленными и хриплый хохот заглушает ругательства и женский плач, садился и он, пил вино, смотрел и слушал, как страшный груз опускается ниже, а лицо девушки с русыми волосами тонет в клубах едкого табачного дыма.
Вверху медленно двигалась ночь, звезды описывали полукруг с востока на запад, и розовый рассвет придвигал сонное лицо свое к разбитым, подслеповатым окнам кабака. Говор вокруг становился тише, ниже опускались к столам опьяневшие тела, и лохматые, рыжие головы ложились на плечи подруг. А его тело становилось чужим, и казалось ему, что голова живет отдельно от тела, бросая тупые крохи сознания в бледную полумглу.
Или он заходил в рестораны, где красивые, сверкающие зеркала неутомимо повторяли движения седого человека с молодым, загорелым лицом. На мраморных столиках белели девственно чистые скатерти, сверкая снежными изломами складок, румянец плодов алел в хрустальных вазах, и море яркого света дрожало и плыло в звуках бесшабашных мелодий огненными, острыми точками. Огромные, цветные шляпы женщин с нахальными улыбками колебались вокруг. А люди в черном целовали их руки, красные губы, полные плечи, вздрагивая и пьянея от удовольствия.
И снова сонный рассвет придвигал розовое лицо свое к матовым узорным окнам и восковыми, мертвенными тенями покрывал лица людей. В свете наступающего дня они казались призраками, обрывками сна, уродливыми и жалкими. Блестело последнее золото, последние посетители в смятых манишках, в шляпах, сдвинутых на затылок, расплачивались и уходили, а он сидел, и пустым казался ему наступающий день, пустым и ненужным, как бутылки, стоящие на столе. Дыханием его было страдание, и молитвой была тоска его.
IV
С тех пор прошло пять лет.
Пять лет прошло с того дня, когда он в первый раз обнял ее и сказал: «Можно обнять тебя?» Пять лет.
Из крепости он вышел седой. Ни письма, ни привета он не получил за эти три года, ничего. Его содержали, как важного государственного преступника, и ни одно известие о ней не всколыхнуло его сердце. Людям, посадившим его в тюрьму, не было дела до его страданий; они служили отечеству.
О жизни своей в эти три года он всегда боялся вспоминать и с ужасом приговоренного к смерти вскакивал ночью с постели, когда снилось, что он снова в тюрьме. Помнил только, что с грустью мечтал о пытках тела, существовавших в доброе старое время, и жалел, что не может своим изорванным, окровавленным телом купить свидание с ней. Раньше это было можно, в то доброе старое время.
Когда его выпустили, оправданного, он стал искать ее. Огромность задачи не поставила его в тупик. Но следы ее исчезли, и никто не мог сказать ему, где она. В мире людей, среди которых он жил, связи и знакомства непрочны, как самая жизнь этих людей. Приходят одни, уходят, приходят другие и снова бесследно теряются в шуме и холоде жизни. Исчезают, как ночная роса в утренний час.
Но упорно, неотступно, как мученик – смерть, как ученый – великую идею, он искал ее, день за днем, месяц за месяцем, разъезжая по городам, за границей, везде, где мог ожидать встретить ее. Но не было того человека, той женщины.
Он спрашивал ее везде, в отелях, гостиницах, адресных столах я клубах, библиотеках и союзах. Кельнеры и гарсоны, половые и чичероне[2] вежливо выслушивали его, когда, стараясь казаться хладнокровным и рассеянным, он спрашивал их, прислушиваясь к ответу всем телом, с тоскою и ужасом:
– Скажите, здесь не останавливалась Вера N? Из России? Она из России, русская.
В лице людей, слушавших его, мелькало озабоченное, деловитое выражение. Они бежали куда-то, рылись в больших книгах с золотыми обрезами, в кипах листков и журналов, и каждый раз, бегая глазами по его загорелому лицу и седым волосам, говорили виновато-ласковым голосом:
– Вера N. Нет, мсье. Госпожи с этой фамилией у нас не было.
Чем дальше спрашивал он, тем труднее становилось говорить чужим, равнодушным людям имя, священное для него. И начинало казаться, что тайна его – уже не тайна, что выползла она из сокровенных тайников и неслышной тенью стелется по земле, из уст в уста, из мозга в мозг, передавая его муку, его любовь. С ненавистью смотрел он тогда в зеркало на свое лицо, проклиная измученные, угрюмые черты, не доверяя им, как скряга слугам, берегущим сокровище. Если б лицо его стало каменной маской – ему было бы легче. Тогда ни один мускул, ни одно дрожание век не выдали бы тоски его. Все труднее было ему спрашивать о ней, и казалось, что смех дрожит в глазах людей, отвечавших ему, что знают они его тайну и носят из дома в дом, хватая грязными пальцами, – сокровище, его любовь и молитву.
Шло время, весна пестрела цветами, лето синело и ширилось, желтела плакучая осень, стыла и серебрилась зима. Но не было того человека, той женщины.
– Где ты? Где ты? Я распущу твои волосы, я слезами омою их. Слезами чистыми, как любовь, как тоске моя. Я буду целовать следы ног твоих…
V
Иногда он приводил к себе женщину и запирался с ней. Являлись слуги, ставили на стол все, что требовала она, часто голодная и нетрезвая, и скромно уходили, неслышно ступая мягкими, дрессированными шагами. Он пил, оглушая себя, женщина садилась против него, охорашиваясь и оголяя локти. Снимала шляпу с цветными, красивыми перьями, трепала его по щеке и говорила:
– Давай чокнемся. Ты, душечка, сердитый? Отчего так?
Но он молчал, а женщина смеялась преувеличенно громко, думая, что не нравится ему. Садилась к нему на колени и двигалась телом, стараясь зажечь кровь. Наливала ему и себе, он пил и слушал, как падают за окном дождевые капли. Иногда смотрел на нее и говорил:
– Зачем ты сняла шляпу? Она тебе к лицу.
– Я люблю рыбу под белым соусом, – говорила женщина. – Не надеть ли мне еще калоши, дружочек? Я в комнате не ношу шляп.
Потом он брал ее за руки и долго молча целовал их. Она сидела тихо, но вдруг, вырываясь, вскрикивала обиженным, визгливым голосом:
– Ревет! Вот дурак!
– Не нужно… – бормотал он, качая головой, полной кошмарного бреда. – Не нужно. Разве ты – она?
Шли минуты, часы; женщина, пьянея, прижималась к нему все крепче и болтала без умолку, хохоча, вскидывая вверх толстые ноги в ажурных чулках. Он становился перед ней на колени и просил робким, умоляющим шепотом:
– Погладь меня… Ну, погладь же… Приласкай… Крепче, крепче обними меня. Вот так. Еще крепче. Милый я, – милый, да?..
Она заливалась звонким неудержимым хохотом, сверкая зубами, и тормошила его, крепко стискивая полными, нагими руками шею человека с загорелым лицом. Слова ее прыгали по комнате, отскакивая от его сознания, возбужденные, громкие:
– Ах ты, мой старичок! Бедняжка! Есть же такие на свете, господи!..
Кто-то гасил свет: темнота обнимала их, и в темноте он покрывал голое, горячее тело поцелуями, безумными и нежными, как счастье. Прижимался к ней. Терся лицом о лицо, трепеща от тоски и боли. Зарывал лицо в темные, пахучие волосы и думал, что это она, его возлюбленная, его радость.
Ночь шла, и ширилась, и закрывала стыдливым покровом опустошенную душу пьяного человека, и несла отдых красивой, продажной женщине. И снова розовый рассвет придвигал сонное лицо свое к занавескам, одевая мертвенным светом спящих людей.
День идет равнодушный и шумный. День за днем рождается и умирает, но нет ее. Но нет того человека, той женщины.
VI
Улицы становились пустыннее, глуше; торопливо стучали шаги одиноких прохожих. Откуда-то и как будто со всех сторон двигался отдаленный грохот экипажей, катившихся на людных улицах. В окнах, блестевших скупым светом, скользили тени людей, и мир, скрытый стеклами, убогий внутри, с улицы казался таинственным и глубоким.
С тех пор, как он вышел из веселого и громадного подъезда, прошел, вероятно, час. Двигаясь во всевозможных направлениях, пересекая площади и пустыри, терпеливо проходя длинные улицы и угрюмые переулки, он изредка останавливался, соображая, что сбился с дороги, затем опускал голову и, моментально забывая, где он, – шел снова, без определенного плана, без цели, погруженный в глубокое раздумье. Прохожие уступали ему дорогу, так как он не уступал ее никому, даже женщинам, потому что не видел их. Ноги устали, болели ступни и сгибы колен, он чувствовал, но не сознавал этого. Нищий, попросивший у него милостыни, получил в ответ:
– Не знаю. Я забыл часы дома.
Неожиданно, поворачивая за угол, в безмолвии и темноте вечерней улицы, он заметил кучку людей, толпившихся на ярко освещенном тротуаре, и тут же забыл о них. Через несколько шагов ему крикнули прямо в лицо хриплым и назойливым голосом:
– Приглашаю господина взять билет! Франк, франк, только один франк! Все новости Америки и Парижа!
Как человек, разбуженный внезапным, грубым толчком, он вздохнул, поднял голову и осмотрелся.
Прямо перед ним, на шестах, украшенных лентами и флагами, висела холщовая вывеска, освещенная электрическим светом. На ней было написано красными, затейливыми буквами, по белому фону: «Театр». Слева и справа этого слова чернели грубо нарисованные руки в манжетах, с указательными пальцами, протянутыми к буквам вывески. У широких, распахнутых дверей дощатого здания, испачканного обрывками афиш, висел лист белой бумаги. Он подошел и стал читать.
«Неожиданное приключение». «Добывание мрамора в Карраре». «Индейцы и Ков-Бои»…
Кругом теснились мальчишки и толкали его, засматривая в лицо. Усталость одолевала его. Человек, кривой на один глаз, в рыжем котелке и клетчатом кашне ходил по тротуару, мокрому от дождя, выкрикивая безразличным гортанным голосом:
– Один франк! Только один франк! Начинается! Спешите и удивляйтесь! Все новости, все новости! Франк!
Колокольчик в его пальцах неутомимо дребезжал мелким, бессильным звоном. Человек с загорелым лицом подошел к прилавку и купил билет у сонной, толстой женщины с напудренными плечами. Отодвинув драпировки, он сделал несколько шагов и сел на стул.
Вокруг сидело десять – двенадцать человек, преимущественно рабочие и мелкий торговый люд. Они сидели согнувшись, зевая и усиленно рассматривая разноцветные плакаты развешанные на стенах, обитых зеленой с красными полосами материей. Перед экраном сидел тапер, старик с красным носом и артистически-длинными серыми волосами. Его тщедушная фигура в изношенном сюртуке сотрясалась от ударов по клавишам, извлекая жалкие, прыгающие звуки танца.
За стеной еще раз продребезжал колокольчик и внезапно погас свет. Маленькая девочка с большими глазами громко и таинственно сказала матери:
– Мама, они хотят спать?
– Тсс! – сказала болезненная женщина, ее мать. – Сиди смирно.
– Петушки, – сказала девочка, увидя появившуюся на экране фабричную марку. – Мама, петушки?
Но петушки скрылись. Серая улица с серыми домами и серым небом встала перед глазами зрителей. Беззвучная, теневая, серая жизнь скользила по ней. Издалека двигались экипажи, конки, росли, делались огромными и пропадали.
Шли люди с корзинами, покупками, смеялись серыми улыбками, кивали, оглядывались. Бежали собаки и лаяли беззвучным лаем. Казалось, что внезапная глухота поразила зрителя. Движется жизнь, но беззвучна она и мертва, как загробные тени.
Из кондитерской вышел мальчик и, весело подпрыгивая, направился с корзиной, полной пирогов, к поджидавшему его маленькому товарищу-трубочисту. Они идут, жадно уничтожая пироги заказчика, довольные и счастливые.
Едет автомобиль. Шофер не видит, что маленький сорванец уже примостился сзади между колес и весело болтает босыми ногами, вздымая пыль.
– Он поехал, – сказала девочка и тронула за плечо мать. – Мама, он поехал, тот мальчик!..
– Молчи, – сказала женщина. – А то придет трубочист и унесет тебя.
Идут люди, смотрят вслед уезжающему сорванцу и смеются. Женщина в большой соломенной шляпке с мешочком в руках остановилась, оглядывается и смотрит, как невидимый зрителю фотографический аппарат записывает биение жизни.
VII
Он вскочил, зарыдал, крикнул и бросился вперед, теряя сознание.
– Она!
Она – его солнце, его жизнь. Родная! Ее грустная, милая улыбка. Ее лицо, похудевшее, тонкое. Движения! Все!
Она – схваченная игрой света. Прямо в душу смотрят ее глаза, в его потрясенную, задыхающуюся душу. Тень от шляпки упала на его лицо. Остановилась! Пошла!
Долгий, пугающий крик убил тишину и потряс стены театра. Он бросился, побежал к ней, уронив шляпу, расталкивая прохожих, побежал, задыхаясь, с лицом, мокрым от слез. Десять, пятнадцать шагов расстояния…
– Вера! Вера!
Женщина обогнула решетку сада и остановилась, удивленная криком. Он догнал ее, сотрясаясь от плача, взял на руки, поднял как ребенка, поцеловал…
Она испугалась, побледнела… Узнала! Узнала. Прижалась к нему. Безумие счастья, жгучего, как нестерпимая боль, развернуло свои крылья, осенив их. Все утонуло, пропало. Только они – их двое…
Кто-то схватил сзади и грубо потянул в сторону. Он обернулся, слепым, пораженным взглядом обвел улицу и чужих перепуганных людей, отрывавших его от чуда, сокровища и молитвы.
Огненный снег завертелся перед глазами, и кто-то огромный, тяжелой гирей ударил в сердце. Стало темно. Два маленьких рыжих петуха выскочили по бокам, сверкнули красными, косыми глазами и исчезли. Поплыл тягучий, долгий звон, усилился, стих и замер.[3]
Когда потащили к выходу тело, ставшее вдруг таинственным и враждебным для всех этих живых, перепуганных людей, – маленький, горбоносый субъект с грязным галстуком и черными глазами сказал человеку, звонившему в колокольчик:
– Я заметил его еще раньше… Он не взял сдачи – вы подумайте – с пяти франков!..
Примечания
1
Гуттаперчевый – из затвердевшего млечного сока некоторых деревьев, близкого по своим свойствам к каучуку.
2
Чичероне (итал. cicerone) – гид, проводник, дающий объяснения туристам.
3
В полной редакции отсутствуют строчки, которые есть в газетной публикации. После слов «Поплыл тягучий, долгий звон, усилился, стих и замер» следовало: «И долго, целый час после этого, не оживал в игре света экран маленького театра. А потом снова, мелко и бессильно, задребезжал колокольчик, вздрагивая и умирая тупым зовом в осенней мгле».





